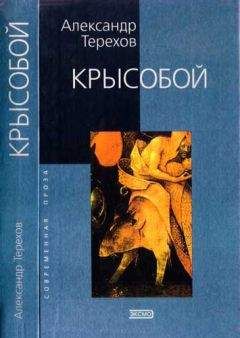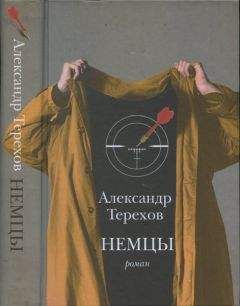— А кто сейчас он?
— Как кто? Это когда было… Помер! Жену забыть не мог, ночью пойдет в сад, кричит: где ты, на Олимпе? В Эмпирее? Выше? Писали: имел несчастную страсть придерживаться чарочки. Умер от полной апатии ко всему.
— Я хотела… Ваша жена умерла?
— Да нет, какой там — можно сказать, развелись и не видимся. Родня ее меня терпеть не может. Я ее в деревню упрятал. Они не понимают, а ей там лучше будет.
— Красивая?
— Ну как… Я сочинять не буду, я за свою жизнь раздел, чтоб догола, баб — ну, не больше двадцати. Знаешь, все очень похоже. Рты, животы, некоторые места вовсе — один в один. Особенно лежа. Трудно сравнивать. Но вот у нее, например, было три груди.
— Что?
— Три груди. Ну в основном у всех две. Бывает одна, но вот три — реже. Вот у нее. Мать, да куда ты пошла? Я ж не считаю твои! Вон какой у тебя зад, да я люблю тебя…
Озяб так, что бегом домой, грея пальцы, — дыхание зримо клубилось, у ворот голосила влекущая меня беременная с крашеной челкой: «Жалко зеленого саду, зеленого саду…» Запевала сызнова, но уж потоньше, я двинулся рядом — курносая такая, и ротешник; обнял раздавшийся стан и враз согрелся, почуял: надо!
— Что это вы только одну песню поете? А?
— Какую готовим — такую поем.
— Вместе вообще здорово поете! — Как и предвиделось, в конце дорожки она завернула и уткнулась в меня, я, сообразив, что живот к животу не сойдемся, подхватил ее с боку, поцеловал в шею, а руки уж и не знал, как расположить.
Она гордо ответила:
— Наш хор по области первое место держит.
Ее осторожные руки, запутавшись в моем свитере, последовательно расстегнули рубашку и чертили сладостную азбуку на теле — неужели на лавке?
— Хор…
— Здесь и есть — наш хор. Придумали, красиво, когда беременные поют на веранде. Гостям понравится. Нас и попросили.
— И ты…
— Я-то ничего… А вот у нас шестеро незамужних и столько же на пенсии. Вот им пришлось.
Она помолчала и высвободила руки.
— Что-то ты сегодня без настроения.
Я потоптался и ушел спать. Холодно. Когда ж затопят?
Время «Ч» минус 8 суток
— Посмотри. Так…
Так ветер сносит листья. Уже коричневые, так податливы. Ветер не виден, просто зашипят кроны, а стихают — листья тронулись, сходят в сторону, словно облако — и бабочками оседают, раскачиваясь и мешаясь, как живое, путаницей застревая в ветвях, садясь на темя часовым ребятам. Опять ветер. Сухой, насекомый шорох и новая стая. Смотри. И там. Сдирает платок с качнувшейся ветки — осыпается шелуха. Ветер, деревья обсыпаны по колени, не могут ступить. Опять зашипело, шелест. Снимаются… все.
От середины дорожки мы пошли еле. Незнакомый верзила успокаивающе выставил в ладони удостоверение.
— Лейтенант Заборов. — Он сбивал целящие в морду листья, раздутый, как грузчик, пригладил залысины. — Усиленно сопровождаю, по факту угроз. Клинский решил милицию не трогать, их как раз на листопад двинули. Потихоньку. — Он вышел первым за ворота. — Кто не спрятался, я не виноват. Сердюк, чей там зад из-за столба? А вы беседуйте, не обращайте внимания.
— Слава богу, — признался Старый. — Плохо спал, казалось, в окно лезут. Меня эти шутки тревожат. Как-то у них с преступностью, разгул какой-то… Угрожать научились. Убьют. А ты что думаешь, за гробом жизнь?
— Никогда не верил. Наши должны были б сбежать. Маленьким был, все книжки такие, как наши отовсюду бежали. Перепилил — убежал. Восстание подняли — ушли. Перебили охрану, захватили самолет. Если б там на небе что-то имелось — наши обязательно бы сдернули. А раз за все время ни один…
— Ха, а если их там очень устраивает?
— Я ж тебе объясняю: я так маленьким думал. Теперь другое думаю: если рай и никто мотать не хочет, не может быть, чтоб кто-то из наших не надрался пьяным и не провалился бы по своей дурости обратно. Наш бы обязательно что-то сломал и выпал. Ничего там нет.
— А где есть?
— Здесь. Старый, я к своей…
— Справлюсь. Как там она? Не хочет? Лейтенант, мы расходимся.
Верзила позволил:
— В банк? Смаляй через площадь — там тебя ждут. Не боись. Вправду захотят убить — предупреждать не будут.
Так не терпелось, что я считал шаги, а то бы побежал. Все равно побежал; ветер спотыкался о бульварную гриву, листья вздымались дымом, как пыль над ковром после удара; дворники, солдаты, бабы, старшеклассники прочесывали траву, снося листья в мусорные баки — кран ставил баки на машины, а ветру не сиделось; у банка вскинулись с корточек Ларионов и Витя, размахались руками.
— За вами гонятся?
— Сам пробежался. Ключи взяли? — Я погладил дверь, крашеное дерево. Витя дышал в загривок, грубо двинул его. — Я один. Ты хреново понял? Дам промеж глаз, вот и вся инструкция.
Надо уметь зайти. Ждешь худшего, что избежала и жива. Заходишь, исполняя все, что полагается с живой: неслышно, без света. Выслушал тьму, удерживая в ладони тяжелеющий фонарь. Тьма всегда затаенно жива. Но, если хранит мертвечину, перенимает ее привкус. Включил фонарь. Нет!
Нет. Что ж. Вообще крысы делятся на неосторожных, осторожных и очень осторожных. Первая подходит к незнакомой пайке спустя неделю. Последняя — никогда, любимая моя.
Я поглаживал светом космы паутины, багровые стены, мазками спускался на пол, легкими волнами, начиная из мертвых углов, окружая, приближался, дразня отступлениями, — подбирался щекочущей, солнечной тяжестью к сжавшейся норе и заскользил вкруг нее, словно принуждая разжаться, размякнуть, и лишь раз, усталым движением, переполненной каплей залепил ее зев, заставив дрогнуть, — потушил свет и бессильно дремал, подложив под затылок рукавицу: значит — нет.
Нет, она выходила. Уже не ради любопытства — жрать. Пора уже злобиться — не хватает мяса, пора звереть, это на руку мне, но капканы она обогнула змейкой, все три ряда — меж следами на муке равные расстояния — не топталась! не подумала нигде! — не соблазнил. Такая ж тропинка обратно. Больно, когда тебя поняли всего.
Как убить? Не цветочек ведь, не человек. Я зажег фонарь: рыхлятины у норы не прибавилось — обустроилась. Если б она копала на другой выход… Я подслушивал — Витя рассказывал Ларионову, я попал на вопрос:
— В ванной жила?
— Под ванной. А днем выходила. Мы никто не заходили, у меня и родители боятся очень. Отраву какую-то клали, а даже глянуть страшно: ела или нет. Так, колотили палкой, и вся борьба.
— Кошку.
— Заперли на ночь — так кричала, что никто не спал. Умыться ходили на кухню, мыться в баню. Мать не стирала. Теперь бы я… И плевать. А тогда — уже не спал.
— И как же вы? — громко спрашивал архитектор, вынуждая Витю отвечать громче, чтоб я усвоил.
— Колбасу дорожкой выложили к двери. И на лестницу. Из кухни смотрели. Он вышел… Ел и шел. Боялись, вдруг наестся на полдороге? Нет, вышел, вышла туда, за порог. Отец дверь захлопнул, а он на отца глядел так осуждающе… Таким я был. Сколько чувствовал про себя…
Ларионов что-то неслышно спросил.
— Да, за науку я им благодарен.
Я вылез, жмурясь на свету, велел Вите:
— Иди к Старому. Скажешь, тампон буду делать. Там-пон. Что даст — принесешь.
Ларионов, спровадив товарища, попросил:
— Не будьте беспощадны к нему. Все не так… Все уезжают от нас — он вернулся. Наше будущее.
— На хрен мне ваше будущее, я его не разделяю. Дуй капканы разряди. Пятнадцать капканов — пятнадцать кусков хлеба в кулаке, чтоб ни один на пол.
Незачем идти в банк. Посиди.
В банке красили рамы и подоконники. Управляющая ожидала посреди кабинета — в цветной рубахе выпуском на черные штаны. Блестели смоляные сапожки, пока я лязгал замком.
— Там ключ снаружи.
Заперся.
— Что ты ко мне так ходишь? Ко мне надо ходить: коробка конфет, хорошее вино. Цветочки, видишь, надо освежить. Вчера полковник заходил. Говорит, Алла Ивановна, а губы у тебя рабочие, а я говорю: чего-о?
Я схватил ее за волосы и потянул за спину — закрыла глаза от боли, но упиралась, выдавливая напрягшимся горлом:
— Сделай больно… Ну, укуси меня. — Ворочалась в моих руках, дрожаще вздыхая, только ее руки смелели, вскинула заслезившиеся глаза. — Ты же потом меня уважать не будешь. — И обняла, и вырвалась — дунула в лицо. — Отстань, ты мне что должен? Сделай. Мне нравится, когда мне должны мужчины. Зачем стул?
Я загораживал стульями пути отхода, оставался угол за столом, ей вдруг понадобилось перебрать бумаги, нагнулась, ткнула кнопку:
— Лид, пусть придет постовой, а то я захлопнулась — сама не выйду.
Застегнулась и старательно, с выкрутасами поцеловала.
— Все будет. Иди.
Я отпер задергавшуюся дверь.
Вату и антикоагулянты Старый сам принес. Подсветил, а я натолкал в нору комки ваты, самые последние смочил отравой и набил плотней пробкой, прислонил снаружи фанерку и придавил кирпичом. Вот.