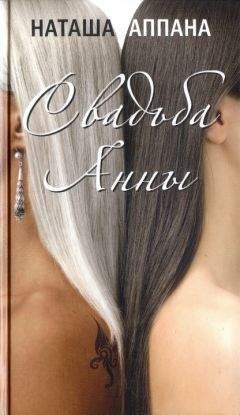Половина одиннадцатого. Подхожу к окну, чтобы закрыть, и ловлю взглядом луну в небе и накладывающееся на луну собственное отражение в стекле. Там, снаружи, сейчас никаких красок, не видно рапсовых полей, не видно долины, тумана, домиков — теперь картина черно-белая. Я улыбаюсь своему отражению, из-за распущенных волос лицо кажется еще меньше. Приближается Роман, и я как будто смотрю фильм. Я вижу позади себя его лицо, его встрепанные волосы, такой старый фильм, как ожившая фотография, нерезкая, между нами луна, между нами ночь, он останавливается прямо за мной, он улыбается, и больше я ничего не вижу, потому что закрываю глаза. И ко мне приходит немыслимая, невозможная уверенность, что теперь все будет хорошо.
И еще я тут же понимаю, что все, с нами происходящее, правда. Это мгновенное понимание меня не пугает, я не зажимаюсь от него, наоборот, мне от него спокойно, и я так богата, так переполнена, как редко, а может, и никогда не была. Что чего стоит, я всегда осознавала только потом, когда ничего уже не было, когда все уходило в прошлое, когда от всего, что ушло, оставались лишь грусть и воспоминания. А теперь время словно замедлилось, поделилось на долгие секунды, которые я могу смаковать, в которые я могу погружаться вся целиком, делать как-то так, чтобы каждой частицей кожи ощущать мгновение в его протяженности и широте. Я никуда не спешу и впервые в жизни не пытаюсь ни взять верх над уходящим временем, ни подчиниться ему. В этот раз часы стали мне друзьями, союзниками, братьями. Мое сердце открывается, как небо, мое сердце — небо.
Совсем гладко все-таки не получается. То я начинаю стесняться, как девчонка, то Роман неловок, мы ищем опоры в уже знакомом — в глазах, в губах, мы не разнимаем рук, что бы мы ни делали, мы стараемся не расцепиться взглядами, но мне нравятся эти неловкости, эти колебания, эта трогательная, идущая от волнения неуклюжесть, и глаза у меня влажнеют, и начинают литься слезы, и сердце бьется так, что грудь вздрагивает. Я не притворяюсь идеальной любовницей, не притворяюсь, будто все умею, мне совершенно не нужно доказывать, что опытна в любви, сейчас все правда и все правильно, все, что годы подарили мне лучшего, и все, что годы прицепили ко мне худшего, все это со мной.
Мы смеемся над своей неуверенностью, и в эти мгновения неуверенности нам лучше, чем если бы все было совсем гладко. Между нами сообщничество, которого не бывает у любовников на одну ночь, гармония, какой не всегда достигают пары, долго прожившие вместе. У него три родинки на ключице, на палец одна от другой, и еще две на плече, и еще одна, покрупнее, на бедре, эту можно взять между большим и указательным и покатать… Розовая такая родинка, немножко сморщенная, но розовая, будто щеки юной девы в романах восемнадцатого века. А чуть пониже, на внутренней поверхности ляжки, еще одна, я не решилась рассмотреть ее как следует, только прикоснулась, закрыла глаза и представила себе, что она тоже розовая. И подумала, что у меня хватит времени в этом убедиться. Впервые в жизни я не торопилась — завтра, послезавтра, через месяц, через год, все равно когда, какая разница. То, что происходит сегодня, во время свадьбы Анны, у меня теперь навсегда. Я поймала себя на том, что нет у меня ни надежд, ни ожиданий.
Внизу продолжается праздник, как будто под полом бьется огромное сердце, я не знаю, который час, я не осмеливаюсь шевельнуться. Роман уткнулся мне в плечо, он не спит, ни мне ни ему совсем не хочется спать, сна ни в одном глазу, просто как никогда. Я молюсь, чтобы это длилось вечно. Нет, не о том, чтобы Роман навсегда остался в моей постели, я понимаю, что это невозможно, а может быть, и не нужно, а о том, чтобы это чувство — «я сделала то, что надо было сделать», чувство, что я в ладу с собственным телом и собственным духом, что я послушалась глубинной интуиции и не ошиблась, — чтобы это ощущение осталось со мной на всю жизнь. Мне кажется, будто я в первый, самый первый раз переживаю такое… такое, что можно было бы назвать простым, прекрасным, добрым, мне кажется, будто я обрела нечто неуловимое и драгоценное, нечто постоянно ускользающее от нас из-за пустой траты времени, из-за жажды все иметь, гнаться и копить, подменившей умение созерцать.
Я снова и снова вспоминаю этот день, который начинался довольно печально и в некоей замедленности — пока мы с Анной были еще дома. Как будто стены защищали нас и от времени тоже. Но стоило высунуться наружу — пузырь лопнул, время нас разделило, унесло с собой наше эфемерное содружество и нашу прежнюю жизнь. А с тех пор, как я вошла с Романом в спальню, все успокоилось и время превратилось в гигантскую волну — то накатит, то отступит.
Тянусь к часам, и тут дверь открывается. Я не отдергиваю руку, я беру часы, без четверти двенадцать, я знаю, что это Анна. Она старается не шуметь, я узнаю ее шаги, ее легкую поступь: она ставит сначала носок, а потом уже опускает всю маленькую ступню, она всегда так делала, у нее всегда были эти легкие шаги, но я всегда слышала, скорее даже чувствовала, что она здесь. Сегодня слышны не только шаги, еще шелест платья, наверное, Анна его немножко приподняла. Я не боюсь, на этот раз не боюсь.
Я всю свою жизнь боялась дочери, боялась, что не сумею ее воспитать, боялась, что она мной будет недовольна, боялась, что она будет совсем не такой, как я, боялась, что она будет точной копией меня, боялась быть слишком уж самой собой, боялась ее разочаровать, боялась ее разлюбить, боялась, что она меня разлюбит. Наверное, если бы меня попросили определить свой материнский опыт одним словом, это слово было бы — страх. Столько ответственности, в твоих руках жизнь, приходит ли нам это в голову, когда даем жизнь, хоть на минутку об этом задумываемся? О грузе этой жизни со всеми ее успехами, провалами, упущенными возможностями, — о жизни, которая прибавляется к нашей, как будто нашей собственной, этой собачьей жизни, не хватает? Нет, мы думаем, какое личико будет у нашего ребенка, на кого он будет похож, и проводим день за днем, глядя на него, спящего, всматриваясь в его черты, думаем о том, как он будет лепетать и какое слово скажет первым, думаем о его проказах, над которыми заранее смеемся, думаем о днях его рождения и новых ботиночках, которые он будет носить с такой гордостью, думаем о первом велосипеде и о том, как он в первый раз сам удержится в седле, думаем о первых его шагах и уроках на дом, думаем, до чего же он будет умный, а как же иначе, он обязательно будет умный, обязательно будет красивый.
Я только и успеваю шепнуть Роману: «Не волнуйся!» — и вот, пожалуйста. Я только и успеваю запомнить, какое у нее было лицо до того, какая она была вся до того — пока не осознала, что я в постели с мужчиной, с ее свекром. Она действительно приподняла юбку до щиколоток, и лицо ее больше не такое… не такое слегка напряженное, как во время церемонии, с этим слишком бледным для нее тоном, с этой чересчур яркой для нее помадой. Ее одолевает волшебная усталость — вот почему она выглядит такой счастливой, и она уже знает, что все удалось, что удалось сделать этот день, как говорится, самым прекрасным днем в жизни. Она даже улыбается — чуть-чуть лукаво.
А потом видит. А что, собственно, она увидела? Мы стыдливо укрыты простыней, что там осталось снаружи? — наши руки, наши шеи, наши головы.
Анна выпускает край юбки, зажимает рот ладонью, приглушенно вскрикивает и убегает. Ее каблуки стучат по полу, она хлопает дверью, и я слышу, как она мчится по коридору.
Мне все еще не страшно, я и бровью не повела. Роман вздыхает, берет меня за руку, и как же я ему благодарна за то, что он ничего не говорит. Я встаю, надеваю платье, заказанное для свадьбы Анны, не прощаюсь, не позволяю себе раздумывать над тем, застану ли его, вернувшись, мне надо поговорить с Анной.
В столовой какие-то гости еще танцуют, чей-то мальчик спит на трех сдвинутых стульях… Анны нет. Выхожу во двор. От холодного воздуха меня бросает в дрожь, и тут я вижу белый силуэт. Анна сидит возле алтаря. Я всегда боялась спорить с дочерью, как будто чувствовала себя на ступеньку ниже, как будто я не способна ни согласиться с ее аргументами, ни выдвинуть свои, заставить ее уступить. Я всегда придумывала немыслимое количество слов, которые надо сказать, немыслимое количество жестов, которыми надо подкрепить эти слова, немыслимое количество доводов, на которые Анне нечего было бы возразить, а в споре не могла вспомнить ни одного, парализованная своей любовью и страхом. Сегодня я иду к ней неторопливо, босиком, только сейчас это заметила, и совершенно не боюсь. Мое тело — тело женщины, в голове ни одной легковесной мысли, нет — я собранна, я сосредоточенна, я не боюсь.
— Анна…
— Мама, оставь меня в покое.
Раньше я ретировалась бы, отступила под предлогом того, что должна же я уважать ее волю, а внутренне — вздыхая, что нельзя сразу пойти на конфликт, но сейчас я слышу это «мама», произнесенное, нет, не с нежностью, зачем лишние иллюзии, спокойно; она сказала «мама» не со своей обычной осуждающей интонацией, сказала очень спокойно. Я сажусь на стул за ее спиной, мне до смерти хочется погладить ее шею, обнять мою дочку, в прежние времена я бы упала к ее ногам, стала бы на коленях вымаливать прощение за то, что оказалась такой плохой матерью. А теперь я просто-напросто сажусь, небо светлое, над замком россыпь звезд, и я думаю о Романе. В первый раз, увидев звезды, я не вспоминаю Мэтью, я слежу глазами за несколькими звездочками, пока взгляд не опускается до густого леса. Ночь пахнет деревьями, сырой травой, влажной землей. Я невольно вздыхаю, Анна тоже. Она смотрит в небо. И тогда — наверное, потому, что все здесь такое неподвижное, такое незыблемое, потому что ничто не нарушает установившегося порядка, потому что мать и дочь сидят в ночной тишине, потому что, как мне кажется на мгновение, мы обе нашли наконец свое место в этом мире, потому что в эту минуту мы просто две женщины, такие маленькие, такие незначительные на фоне этого усыпанного звездами неба, — из-за всего этого я рассказываю ей — в первый раз, — как у нас все было с ее отцом.