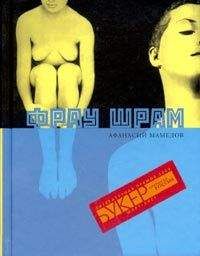Такой любой другой школой почему-то оказалась 60-я. В ней преподавала русский моя мама, и, между прочим, с первого класса учились Марик, Хашим и Нана.
60-я была еще та школа! Находилась она прямо через дорогу от автовокзала. Сигналы автобусов, их рычание на первой скорости, объявления о прибытии одних автобусов и отбытии других (на двух языках), истошные вопли только что прибывших и отбывающих провинциалов сводили на нет все старания учителей. Директорствовал в ту пору в 60-й Исаак Григорьевич Гутник. Душою своею он напоминал Тихонова из «Доживем до понедельника», а внешностью удивительно походил на генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Таким образом фильм «Доживем до понедельника» в лице Исаака Григорьевича как бы приобретал новый, совершенно неожиданный, дополнительный смысл — во все времена нечестивые СВЕРХУ подменяли истинных помазанников Божьих: а вдруг и наш… Нет нужды говорить, как благодаря такому вот «вдруг» относились к нашему директору в РОНО, в ГАИ, в ЖЭКах и в других не менее важных госучреждениях (ах как жаль, что сам Генеральный секретарь ничего не знал о своем бакинском двойнике, впрочем, когда цари интересуются своими двойниками, понятно — то было время другое), в глазах же преподавательского состава 60-й, на девяносто процентов женского, такое сочетание души и внешности делало Исаака Григорьевича мужчиной совершенно неотразимым. Сейчас я почти уверен, что и мама моя была в него влюблена и, может быть, мучилась в 60-й, как я в 174-й.
Учиться в 60-й после 174-й было легко и весело. Я начал забывать Ларису, но с маской своей уже не мог расстаться ни в этой школе, ни в двух других, вечерних, в которых мне предстояло доучиваться. Да и маска уже перестала быть маской. Какая к черту маска! Нет, не пойду я в школу в свою «дебильную» 60-ю. Кто я для педагогов? Кто я для той же Аллы Юсуфовны, занявшей место Исаака Григорьевича после отбытия оного в Землю обетованную, — сын учительницы русского языка, приехавший в отпуск из Москвы и прямо-таки жаждущий посетить родные пенаты, увидеть любимых учителей на коричневом фламандском фоне?! Лучше я уж в 174-ю загляну, в школу, где когда-то давно встретил девочку, благодаря которой…
(Труби, трубадур, труби не оглядывайся! Лучше найди время и сходи на кладбище, на старое еврейское кладбище и уже на новое, на новое тоже сходи. Собери, трубадур, камешки у дороги, положи на могилы предков… там и оглянись…)
Еще вчера, когда я спросил у нее, где бы она хотела, чтобы мы встретились, Ирана ответила: «Слушай, мне совершенно все равно, кто и что скажет в вашем дворе». (Вот уже лет десять будет, как Хашим привел ее в наш дом, в наш двор, и уже лет семь, как я живу в Москве, а все равно, видите ли, этот двор мой, а не ее; странное дело, однако.) Потому я совершенно не удивился, когда она спустилась за мной. Я удивился только тому, что позвонила она в дверь ровно в назначенное время; такая пунктуальность соседки СВЕРХУ просто ошеломила меня.
Мы решили идти пешком. Во-первых, сегодня было относительно прохладно, с моря дул ветерок, не сильный, но приятный, во-вторых, когда двое молодых людей начинают встречаться, им требуется больше времени для узнавания друг друга (и я, и она знали это по собственному опыту, равно как и то, что следящих глаз должно быть как можно меньше), наконец, в-третьих, ей, несомненно, было приятно провести меня по родному городу, улочкам-закоулочкам, на которых я уже давно не был. Город изменился за это время. Местами в худшую сторону, а где-то в лучшую; он стал все-таки больше азербайджанским, хотя на улицах по-прежнему чаще слышна русская речь, но с какой-то новой незнакомой мне интонацией, хотя, может быть, это я уже, слава богу, начал отвыкать от бакинского русского языка, каковой сами мои земляки, разумеется, считают «единственно правильным».
Маршрут мы специально не выбирали; она меня вела. Я шел на том расстоянии от нее, на каком следует идти мужчине, если он не хочет показаться как особо приставучим, так и безучастным.
Мы говорили о том о сем, не затрагивая того, что так или иначе, каким-то образом могло задеть ее или меня: много шутили, были веселы и легки, без видимого усердия.
Поскольку мы с мамой вчера уже шли по улице Гуси Гаджиева, то сегодня, дойдя до Беш мэхтэбэ, решили идти по Басина, потом свернули на Джууд мэхлэси, прошли синагогу, пожарную часть, вышли к кинотеатру «Вэтэн» и, не доходя до женского салона красоты, что на Торговой, свернули в тенистую прохладную улочку, с двух сторон обросшею древними чинарами, тени от которых сплетались посреди дороги.
— Ты ведь не будешь против, если я попрошу тебя подождать здесь немного? спросила она.
Я привалился к чинаре и закурил.
Под нею хорошо, прохладно; над головой трепетала, шелестела листва, и, казалось, хоть вечность целую вот так стой и жди, стой и жди.
Вечность не вечность, а через сколько-то там времени, ну, скажем, через еще две сигареты, выйдет Ирана, и что дальше? Чего я вообще хочу? Зачем я под этим деревом? А если она предложит посидеть в кафе, а у меня, как всегда, только на сигареты да на пиво, — что тогда? И потом, если тебе нравится женщина, на нее ведь надо произвести должное впечатление — но как? Да еще на такую, как Ирана. Ладно — во дворе, дома, на площадке; там все ясно — там я и она просто соседи, я приехал в отпуск и все такое, но ведь в городе, в городе мы одни, только она и я и эти улицы, которые уже давно перестали мне помогать, а только снятся во сне, как в каком-нибудь фильме без названия и сюжета, который ты захватил то ли на середине, то ли в конце. Надо оставаться таким, какой ты есть, надо, даже если ты — Маугли или самоизлечивающийся невротик, у которого только на сигареты да на пиво. Ты же художник, Илья, черт возьми, а не только компрессорщик на заводе, ты — Новогрудский, твой прадед Самуил обращался с миллионами так, как этой доченьке бывшего замминистра торговли и присниться не могло ни в каком из ее швейцарских снов, вот и держи дистанцию, она сама ее нарушит; у нее просто не будет другого выхода. Да. Точно. Я вспоминаю карту Средиземноморья у меня над столом, в Москве, вспоминаю цитату, расположенную где-то на севере Германии: «Я уже давно перестал говорить о деньгах и об искусстве: там, где эти категории сталкиваются, добра не жди. За искусство всегда либо не доплачивают, либо переплачивают». Да, ты — художник и тебе не доплачивают, причем постоянно не доплачивают, так и держись, быть может, это ненормальное явление у них в Германии, а у нас это вполне нормально, даже более чем, следовательно, ты — нормальный человек, правда, это не решает вопроса, как же произвести на нее впечатление, как?..
Она вышла улыбаясь, и было понятно: все, чего ждала она от ОВИРа сегодня, — уже случилось, без заминок. Теперь оставалось только решить вопрос со мной. По ее взгляду сначала прямо мне в глаза, потом куда-то в сторону я понял, она тоже не знает, как именно решить этот вопрос, но уже там, в ОВИРе, положилась на свою интуицию.
— Куда пойдем? — Влекущий, уклончивый взгляд.
Значит, мои волнения под чинарой были не случайны.
— Может, на бульвар, — осторожно предложил я.
— На бульвар? Ты что — не знаешь, море поднялось, все выворочено…
— Ну, тогда прошвырнемся по Торговой, — сказал я тоном, не оставляющим ей выбора.
Она согласилась без особого восторга.
Шутить, быть веселым и легким, вероятно, надо не прерываясь, но если ты уже прервался, если постоял у чинары, послушал, как шелестит листва — тогда все, ни о какой легкости и речи не может идти. С чего бы такого тебе начать даже не знаешь.
Она, дабы хоть как-то поддержать разговор, начала спрашивать меня об институте, над чем я сейчас работаю, какие надежды питаю на литературное мое будущее и питаю ли вообще.
Я принялся вяло ей отвечать, начиная осознавать уже всю бесперспективность этой прогулки, — и тут меня осенило. Нет, правда, в самом деле — осенило!..
— А хочешь, я расскажу тебе, над чем сейчас работаю? Дивная история. Настоящая. И грех, и боль, и та самая тонкая грань, которую поначалу не замечаешь, но за которую едва только… как тут и вся жизнь твоя наперекосяк.
Наверное, у меня очень загорелись глаза; наверное, они у меня загорелись точно так же, как горели демоническим, злым огоньком у Арамыча, наверное, именно этого огонька в глазах и ждала от меня Ирана, — иначе разве у нее самой воспламенился бы так взгляд, и разве отвела бы она глаза, интимно кашлянув, как кашляют во сне, переворачиваясь с одного бока на другой и отгоняя от себя самое запретное, самое невозможное.
Она предложила мне пойти в Молоканский сад. Там, на низенькой скамеечке у фонтана с тремя нимфами, переименованными нашим городом в «трех блядей», я, попыхивая сигаретой, присвоил себе чужую историю, в правдивости которой теперь, по прошествии некоторого времени, не мог быть абсолютно уверенным, кроме двух-трех мест, в которых так угадывалась Христофорова душа, мятущаяся и неприкаянная.