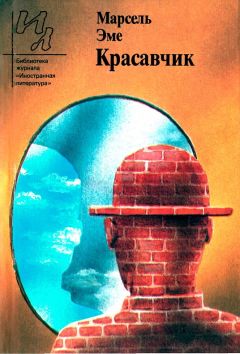Я невольно улыбнулся: хоть все складывалось не слишком весело для меня, но Рене была великолепна.
— Вы правы, — сказал я, — и хотя мне ни много ни мало тридцать восемь лет, я даже не юноша, а совсем дитя. Вопросы, которые я собирался вам задать, действительно глупые. Впрочем, вы не совсем угадали: любите вы меня или нет — это не главный из них. Я хотел спросить, согласны ли вы поехать со мной на край света. Понятно, теперь я этого не сделаю, однако, признайтесь, такой вопрос только украсил бы любой роман.
— Не сомневаюсь, Ролан, и, конечно, помечтать об этом было бы очень приятно. Но сказать вам, чем я только что занималась? Варила варенье. Так надо же его и съесть. Кроме того, я вяжу свитер для Туанетты, а на очереди еще жилеты, носки, гольфы. Да и зачем мне на край света? Подняться сюда, к вам, — для меня и то огромное путешествие, куда уж дальше. Вы не обиделись?
— Напротив. Я восхищен вашим здравомыслием. Знаете, мне кажется, будто мы с вами много лет женаты, но вот уже месяц, как я почему-то забыл об этом. А вы точно знаете, что ваш муж в Бухаресте?
Но тут я снова вспомнил о своем проклятом превращении и очнулся, вся эта игра в любовников показалась мне нудной и нелепой. И когда Рене в свою очередь спросила, знаю ли я точно, где находится моя барышня из магазина, я оборвал ее:
— Довольно дурачиться. Никакой барышни и вообще ничего из того, что вы тут насочиняли, нет и в помине. Есть только человек, который, Бог знает почему, любит вас и способен обеспечить вас и ваших детей. И он полагает, что очень скоро у вас может возникнуть в этом необходимость. Вы так изумительно невозмутимы, что намеками вас не проймешь. Поэтому придется говорить без обиняков: те весьма незначительные дела, которыми занимается ваш муж, никак не могут оправдать его вот уже трехнедельную отлучку. Никакой необходимости в подобной поездке вообще не было, и уж во всяком случае, недели с лихвой хватило бы, чтобы уладить дела. Напрашивается вывод, что ваш муж вообще не намерен возвращаться.
Рене побледнела как полотно, часто задышала.
— Это вы нарочно… — произнесла она слабым голосом, — нарочно так говорите, чтобы испугать меня.
— Возможно, я ошибаюсь, и он просто загулял с какой-нибудь красоткой. Хорошо, если так. Много он взял с собой денег?
— Он сказал по телефону перед самым отъездом, что снял со счета сорок тысяч франков.
— Плохой признак. Ну, а что вам известно о прежних его интрижках, часто с ним такое бывало?
— Что вы! Он вел себя безукоризненно, да меня и не обманешь, я глаз с него не спускала. Он даже побаивался меня. И я уверена: заведись у него интрижка, он бы порвал ее при малейшем моем подозрении. Надо уметь держать мужа в узде, ежедневно управлять каждым его шагом, и тогда он постоянно чувствует присутствие жены, даже когда ее нет рядом.
Сознание власти над мужем приободрило Рене, лицо ее прояснилось.
— Вот-вот, как раз это и может для вас плохо обернуться, — сказал тогда я. — Знавал я мужей, которых жены держали в строгости. Они безупречны до тех пор, пока в один прекрасный день вихрь страсти не унесет их прочь с супружеской стези, и если уж они разорвут свою цепь, ничто на свете не заставит их вернуться к семейному очагу. Скорее они скатятся на самое дно. Был у меня один такой знакомый…
И я сочинил целую историю о том, как этот человек, занимавший-де видный пост, имевший приличное состояние и обожавший своих четверых детишек, был у жены под каблуком, и как печально это кончилось: после двадцати лет супружества он сбежал с некой особой, которая отнюдь не блистала молодостью и красотой.
— Однажды, — продолжал я, — я повстречал его в Марселе, он созывал туристов на морскую прогулку по Старому порту. Тогда-то он и рассказал мне, как случилось, что он бросил семью. Я слушал, и у меня прямо сердце разрывалось. Как-то раз он шел со службы домой и впервые в жизни прельстился уличной девицей и пошел с нею. А потом одна мысль, что придется предстать пред женины очи запятнанным таким грехом, настолько ужаснула его, что он так и остался в гостинице, куда привела его девица. Помню, я заклинал его опомниться, расписывал, как тяжко приходится его семье: дети голодают, жена гнет спину по чужим домам, какая горькая участь ожидает тех, кого он любил и любит по сей день. Но, хотя прошло уже три года, страх его был так же силен, как в тот день, когда он остался в дрянной гостинице.
— Какой ужас, — прошептала Рене.
Погрузившись в раздумье, она разглядывала узор на обоях, и я не без злорадства отметил, что ее гложет раскаяние. Я взял ее за руки и, глядя в глаза, тоном преданного друга сказал:
— Рене, дорогая, я уже жалею, что так разволновал вас. Надо было подождать еще несколько дней. Я напрасно поспешил. Да-да, надо было подождать, пока вы сами все поймете. Ну, постарайтесь выбросить из головы то, что я наговорил, и не думать об этом хотя бы до завтра. Время уже позднее. С минуты на минуту вернется ваша кузина. А я еще поразмыслю об этом деле, наведу, если понадобится, справки, и завтра вечером, на трезвую голову, мы еще раз все обсудим у вас дома.
Рене бросилась мне на шею, бормоча, что она так любит, так любит меня. И я подумал, что, должно быть, становлюсь кандидатом в мужья.
На другое утро страх быть застигнутым врасплох поднял меня с постели чуть свет, так что в половине восьмого я уже вышел из дому. Безоблачное небо сияло. Было сухо и не по сезону холодно. Я пошел по улице без определенной цели, лишь бы убить время и как-нибудь скоротать предстоящий длинный день тоскливого одиночества. Идти в агентство было небезопасно — Жюльен мог устроить мне там западню, и я решил оставить недоделанные дела как есть и пока не заниматься ими. Можно было ручаться, что до самого вечера, до свидания с Рене, я не встречу ни одного знакомого. Прослонявшись битый час по парижским улицам, я ощутил смертельную усталость, и вместе с нею пришло другое чувство: мне стало тошно.
Все мои злоключения вдруг стали мне безразличны. Так, верно, бывает с человеком, которому давно осточертела жизнь. Необычайность всего случившегося не вызывала во мне ни гордости, ни изумления — вообще никаких эмоций. В то утро я ясно понял, что ничто на свете не может быть таким пресным, таким отчаянно скучным, как исключение, аномалия, невидаль, чудо. Ничто не говорит так мало уму и сердцу. Чудо, со злостью думал я, это сухой ствол без корней и без ветвей. Удивительно, что все религии словно сговорились считать его проявлением божества. Чего ради стал бы Бог противоречить сам себе, отрицать свои собственные установления, лишать самого себя опоры? Если следовать этой логике, то чудеса суть не что иное, как проявление бесовского начала, козни какого-нибудь шкодливого, скудоумного, мелкотравчатого черта. И только вера может поразить воображение и наполнить душу восторгом. Меня же Бог покинул. Ничего хорошего, ничего даже мало-мальски интересного от превращения я уже не ждал. Даже в лучшем случае, если Рене согласится уехать со мной, мне придется строить новую жизнь на постыдном, тягостном обмане. А чтобы подкрепить этот изначальный обман, я буду вынужден громоздить одну ложь на другую. Понадобится, например, изобрести предлог, чтобы покинуть Париж, еще один — чтобы избежать встреч с дядей Антоненом, понадобится объяснить, почему у меня нет родни, оправдать меры предосторожности, без которых я не смогу обходиться, — и вообще придется постоянно быть готовым к самым непредвиденным вопросам. Собственные дети будут относиться ко мне как к непрошеному чужаку, а может, даже возненавидят. Нельзя сбрасывать со счетов и материальные трудности, а я не настолько предприимчив и энергичен, чтобы преодолеть их. Рене же будет переносить их мужественно, но отнюдь не безропотно. И уж конечно, сумеет отравить мне жизнь постоянными вздохами и намеками на то, что прежде она жила в полном достатке. Значит, остается бросить жену, детей и начать жизнь сначала, но на это у меня и подавно не хватит пороху. Не так-то легко в тридцать восемь лет заново родиться на свет, очутившись без всякой опоры в прошлом и в будущем. Единственное, чего мне хотелось, это перестать быть исключением из правил и снова зажить, как все нормальные люди. Так думал я, стоя на железнодорожном мосту, что на улице Рике, и глядя вниз, на рельсы, пакгаузы, газгольдеры, тянущиеся до самого предместья Обервилье. Здесь, на стыке кварталов Шапель и Виллет, выстроились в ряд одинаковые дома, подставлявшие солнечным лучам свои фасады, покрытые пятнами копоти, как застарелыми язвами. Под мостом проехал паровоз, и меня обдало струей серого, густого, зловонного дыма, моментально пропитавшего мою одежду и забившегося в ноздри. Непреодолимое отчаяние овладело мной. И я отдался ему с каким-то даже наслаждением. Как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь — сохраню ли я семью или останусь один, — вся она представлялась мне похожей на это унылое предместье: сплошные рельсы, бараки, дома в лишаях — суррогат, подделка, мертвая декорация, застывший кошмар, наваждение, обитель неприкаянных душ. Я остановил такси и велел водителю ехать на улицу Коперника, где жил Жюльен. Половина десятого. Жюльен наверняка еще дома — он всегда поздно ложился. Мой приход будет для него неожиданностью, зато ничего неожиданного не будет для него в признании, которое я собирался сделать. С первой же нашей встречи он заподозрил, что я убил его друга Серюзье, а теперь имел все основания полагать, что опасался не напрасно. Я же, сидя в машине, которая везла меня к его дому, вдруг успокоился и почувствовал облегчение. Наконец-то все объяснится по-человечески, и я окажусь тем, за кого меня принимают. Признаюсь и сразу обрету определенность, которой мне так не хватало. Займу свое законное место. В конце концов кто, как не я, несет ответственность за исчезновение Рауля? Я и есть его убийца — мне не потребовалось никаких замысловатых софизмов, чтобы убедить себя в этом. Так что в дверь Жюльена я позвонил решительно и хладнокровно. Мне открыла седая женщина в очках, секретарша Жюльена, которую я не раз видел у него.