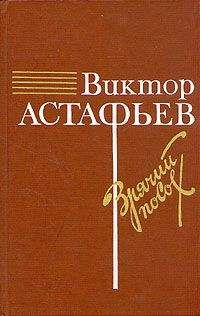Ознакомительная версия.
Она приставила метлу к памятнику и пошла, наклонив вперед туловище, в направлении своей избушки, рассчитывая там, в сараюшке, раздобыть какую-нибудь лестницу, а потом принести ее на площадь и лезть-карабкаться, прижимаясь щекой к лестнице к загрязненной птичьим пометом голове вождя. Есть в ее сараюшке та лестница, нет ли – Тимчиха не знала, ведь живет в этом городке она совсем мало, столько же и в избушке. Вон их, этих избушек, сколько здесь гуляет! Выбирай любую свободную и живи. Она и выбрала эту, в которой обосновалась как-то сразу, с первого дня, не признавая другого жилья, которое было рядом, хотя поаккуратнее на вид. Ее же хатка не шибко привлекательная – маленькая, на одну комнатушку, и сени. Через двор – и тот сараюшко, еще более невзрачный.. Как только рванул Чернобыль, а до него и сотни километров не наберется, городок постепенно опустел, глядел-дивился на всех, кто появлялся в нем, глазницами вымерших хат и зиял пустыми окнами многоэтажек нового микрорайона. Но не все уехали. Некоторые люди и прибились сюда – большинство белорусы со Средней Азии, которым там, под чужим белым солнцем, стало непросто жить: по их словам, начались притеснения со стороны коренных жителей. Но парадокс – из той же Средней Азии, равно как и с Кавказа, потянулись сюда и сами аборигены. Не говоря о бомжах– это больше русские, украинцы. Рядом же. Соседи. Заходи, живи!..
Приехала в городок и Тимчиха. Из Гомеля. Бросила там одного мужа-пьяницу в двухкомнатной квартире, пускай он хоть посинеет от водки, прихватила кое-какие нехитрие пожитки, и сюда. Подметает. Метлу дали в первый же день, когда спросила, где бы пристроиться. «Как та рация – еще не больно известно, – рассуждала женщина, – а Тимка точно прибьет, к этому идет».
Ей еще хотелось чуток пожить.
В сараюшке стояла лестница, однако на Тимчиху та не произвела впечатления – низкая, на четыре перекладины, и слишком какая-то комлистая, тяжелая. Не поднять. Вернулась ни с чем. Задрав голову на Ленина, сказала:
– Нету лестницы. Нету. Стой пока так. Были бы деньги у меня, вопрос решился бы сам собой – поставила бы бутылочку местным бомжам, их здесь море, они за водку тебя помыли бы всего, не то что б!.. И зубы почистили бы. А без денег не возьмутся. Хотя и должны бы так, бесплатно, ты же им ничего плохого не сделал. Было хорошо, когда тебе верили, когда ты вечно жил... Пили и ели. Хоть и кильками закусывали... бычками тоже... «Долой революцию!» Слыхал, Ильич? Дураки и кричат. А пусть и революция будет иногда... так веселее жить. Когда б не было ее, революции, кто б из вас, горлопанов, жил-был сегодня? Другие бы топтали, поди, эту землю... Если бы ты их не развернул, Ильич, все шли бы другой дорогой и как встретились бы тогда? А никак! Таких, Ильич, ты сам и наплодил. Твои! А они, вишь, тебя за это как благодарят? Хотя чего уж тут удивляться – отца родного, бывает, сын за глоток водки порешит...
Всего обляпали... Ели, пили... А когда началась перестройка та, каждый начал на себя одеяло натягивать, кто пошустрее да понахрапистей, тот и укрылся... они с нас сорвали, одеяла те... и заблестели почти все подряд голыми половинками... На всех углах кричат... агитируют... А я и растерялась – не смогла прибиться к кому-нибудь. Одна осталась. Без партии. С метлой. Муж спился где-то... Послушаешь президента – он вроде бы правду говорит, изредка когда неформал какой прорвётся в радиво – этот на свою сторону перетягивает. Так и мету: туда-сюда, сюда- туда... Слаба я, слаба... Совсем запуталась в этой жизни. Лучше бы никого не слушать. Лучше бы жить где на хуторе, подальше от людей, иметь здорового и непьющего мужика, свой надел земли... свои жернова... и ни радива, ни телевизора чтоб... А чего ж это я? Можно подумать, что у меня все это есть. Нету. Пусть, пусть сами решают политики, как нам, простому люду, жить лучше. Ты, Ильич, им не подскажешь. Дышать-то вольно. Дышите. Дышите! Но и есть же хочется. Иной раз – сильно. Как вот сегодня. Пойду... наберусь смелости, картошки попрошу в магазине. Под запись. На вексель. Слово-то какое придумали... Хулиганье! До зарплаты. Может, картошки и дадут. Невелика же ценность, а без нее никак. И щепотку соли вымолю. Не водку же буду просить. Должны понять, проникнуться должны. Свои же люди. Славяне. Чужих кормили когда-то. Неужели своей пожалеют? Хотя не то время, что раньше было. Не то. Могут и фигу ткнуть под нос... Как и тебе, Ильич. Поди сосчитай, сколько их, фиг тех, тебе ткнули уже под нос... Но как я понимаю, тебе все равно – ты памятник. Каменный. Крепкий. Переживёшь. Мне бы твоё!..
Тимчиха не сразу увидела, что рядом с ней стоит мужчина неопределенного возраста с помятым лицом и таким же видом.
– Что, Ленину жалуешься? – кашлянул в кулак мужчина.
– Ему.
– Лишь бы что! – махнул костлявой, давно не мытой рукой возле самого носа мужчина. – Кто тебя, как и меня заодно, услышит? Кому мы нужны? Лишь бы что!..
– Пить меньше надо! – почему-то грубо ответила этому неизвестному мужчине Тимчиха. – Пить! А то распились!..
Мужчина едва заметно ухмыльнулся:
– Когда пьешь, тогда не так жрать хочется. А жратва сегодня дорогая. Выгоднее пить. Хохлятскую. Послушай, баба... Как тебя звать-то? А?
– Никак. Я замужем.
– А-а-а!.. А то хотел сказать: давай вместе жить будем?
– Давай,– вырвалось у Тимчихи.
– А ты сговорчивая, – спокойно, слегка улыбшувшись, сказал мужчина. – Люблю таких баб. Давай или ты ко мне, или я к тебе. Я наблюдал за тобой. Давно. Не решался подойти сразу. Метлы твоей боялся. Звезданешь, думал. А ты – хорошая, по всему видать. Характерная.
– А у тебя что есть? – подняла и сразу опустила глаза Тимчиха.
– Дом. Целиком. И кровать. И на ней все есть. Даже одеяло.
– А еда?
– Этого нет.
– Тогда живи один, – заявила Тимчиха, и тон ее голоса был тверд и решителен. – Мне нужен мужик не для утехи. Да еще такой, как ты. Дрожишь весь – как пузырь... Морда – что печеное яблоко. Подыхать сюда приехал, или как?..
– Ат! Так что, расходимся, значит?
– Давай, давай, выметайся! – Тимчиха агрессивно замахнулась на мужчину метлой, но, вспомнив, что нужна лестница, враз опустила метлу, дружелюбно поинтересовалась. – А ты, жених, лестницу для меня не можешь раздобыть?
– Могу. Зачем тебе?
Женщина кивнула на чумазую голову Ленина. Мужчина брызнул смехом.
– Приволоку. У меня есть. Только сам я не полезу – боюсь, что не взберусь. Шестой месяц пью. Как и приехал. Ежедневно.
– Неси, я сама.
– Жди, – и он, волоча правую ногу, поковылял с площади, пройдя немного, остановился, оглянулся на Тимчиху, задрал голову на памятник, где топталась на том же месте, что и не раз до этого, большая, будто вылепленная из воска, ворона. И ткнул в нее крючковатым пальцем:
– Падла, а!..
Тимчиха же не обращала на него внимания, мела и мела себе дальше, не приглядывалась она и к тем воронам. Ну их, барабашек этаких! И так погано на душе. Оботру, решила, Ленина и пойду просить в лавку картошки. А в мае посажу свою. Пусть растет. Когда есть картошка – уже не страшно. Она умереть не даст. А на деньги эти надежды нету... мало веры им, деньгам. Могут дать – могут не дать. Как вздумается им. А картошка она и есть картошка. Хлеб.
Мужчина, как и обещал, принес лестницу, легкую и длинную, «надетую» на себя, спросил:
– Куда ее?
– К памятнику. Со спины поставь. Спина также в подтеках... в серо-белых с темным оттенком. И подержи, чтобы не брякнуться мне. Я сама полезу, раз ты пугливый такой.
– Трясет.
– Ставь. Так, так. Ага. Держи ее!..
Она держала в одной, левой, руке мокрую тряпку, а правой хваталась за перекладины и лезла аккурат так, как и представляла, – щекой прижимаясь к лестнице, и чем выше поднималась, тем сильнее прошибала тело предательская дрожь, переводила дыхание, и вдруг тряпка выпала из руки, шлепнулась на лысину мужчине, он шарахнулся в сторону, отпустив лестницу, ухватился обеими руками за тряпку и видел, почти обомлев от неожиданности, как лестница сверху отошла от спины Ленина, резко начала заваливаться назад, и Тимчиха, схватившись за нее, как за турник, летела вместе с ней на площадь. Вороны же дружно, как могло показаться, испугавшись всего, что произошло, в одно мгновение всполошились на всех ближайших деревьях, услышав отчаянный нечеловеческий крик Тимчихи:
– А-а-а-а-а-а!
Было слышно, как она упала спиной на площадь, сразу успокоилась, так и лежала, сжав – до белизны в пальцах – лестницу. Мужчина, выругавшись громко и хлестко, крутнулся на истоптанных каблуках, будто попал в вихрь, и побежал в сторону вороньего крика, бежал и сопел:
– Убилась!.. Убилась!.. Убилась!..
Собрались люди. Подъехала «скорая». Тимчиха еще едва заметно дышала, а в глазах тускло плавал край неба с испачканной головой Ильича. Потом все это ушло в небытие...
Подошел начальник.
– Разбилась, – доложил ему врач.
– Глупая баба, – затряс головой, будто сочувствуя, начальник. – Зачем лезла? Кто посылал? Разве же здесь, на земле, нечего подметать, мыть, чистить? Так нет – полезла..
Ознакомительная версия.