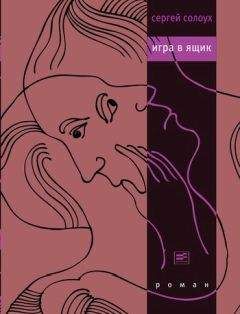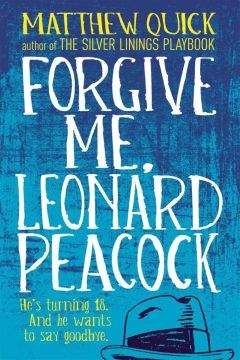Когда в этот день около четырех Сукин вернулся домой, лицо у отца было похоже на горячую плошку сельской солянки, в которой двумя мокрыми маслинами плавали блестящие глаза.
– Звонил воспитатель из гимназии, – сказал отец, неестественно широко и, казалось, не без тайного удовольствия открывая свой прокурорский, заполненный белым и красным рот. – Говорят, ты уже вторую неделю не ходишь на занятия, сказавшись больным. Так вот, изволь объяснить, чем ты болен.
Сукин с тяжелым, до сих пор слегка подванивающим дубильными леденцами ранцем на узких плечах уставился в пол, пытаясь понять, мог ли кто-то из уличных слюнявых стариков в припудренных перхотью и табаком мундирах оказаться отставным секретарем или судьей, всегда готовым опознать и выдать сына своему бывшему коллеге, взрослому Сукину.
– Я здоров, – наконец тускло отозвался Сукин, ничего для себя не решив и лишь еще сильнее, как будто в ожидании резкой и неизбежной затрещины, склонив коротко, на английский спортивный манер, всегда остриженную голову.
– Это хорошо, что здоров, – в ответ прошуршал вместо затрещины веселый сквознячок слов. Словно любимый мотивчик отцовской «Травиаты» не зазвучал, а нарисовался в воздухе невидимыми музыкальными мушками на нотном стане майской живой прохлады.
– Я понимаю, – сказал отец под все тот же неслышимый, лишь осязаемый аккомпанемент ветерка, – роспуск уже так близко, и лень одолевает. К тому же прекрасная погода.
– Да, – хрипло уронил Сукин, все еще не веря своим ушам.
– Ты, наверное, и завтра хотел бы прогулять? – продолжал отец, по-настоящему счастливый от того, что его сын, маленький Сукин, наверное, впервые в жизни нашалил, совершил какой-то дерзкий, действительно лихой поступок, попался, и вот теперь стоит, готовый самым естественным образом войти в круг неразрывной мужской поруки, надежным, молчаливым и все понимающим звеном.
– На вот, возьми, – сказал отец, подавая сыну узкий запечатанный почтовый конверт. – Будешь завтра прогуливаться, занеси между делом. Это совсем рядом с твоей гимназией, в Большом Староконюшенном.
– Хорошо, – безо всякого выражения пообещал Сукин, – занесу.
После чего неуклюже, слово маленький утенок, развернулся на плоских каблучках сандалий и поплелся вон из кабинета, позвякивая на ходу коваными карабинчиками шотландского ранца.
– Нет, постой, – задержал его отец. – Подожди. Вот тебе еще гривенник. Там на углу Староконюшенного и Власьевского есть бакалейная лавка, если хочешь – зайди и запусти марионеток.
После этих слов Сукин-старший, как-то совсем по-рыбьи выпучив глаза, оскалился и вдруг подмигнул сыну, щелкнув фотографической шторкой правого века, будто заправский заговорщик. Письмо в розовом конверте, которое сейчас уносил из его комнаты сын, отец написал на следующий же день после отъезда матери, но отправить по почте так и не решился. Он знал, почти наверняка, что эта рыжая и сумасбродная бестия, троюродная сестра его жены, разорвет конверт с изящнейшей арфообразной виньеткой, который он так долго и тщательно выбирал в писчебумажном магазине Тер-Аверьяна, и выбросит не читая немедленно по получении. Но теперь, когда в посыльные самой судьбой был выбран его сын, мальчик, к которому она всегда была так неравнодушна, у Сукина-старшего появился шанс быть выслушанным и даже понятым. От этой веселившей его нарзанным счастьем мысли он прохаживался вдоль длинного книжного шкафа в своем кабинете и мясистым пальцем с грубо обточенным ногтем стукал по бессмысленным, расставленным его женой тут и там китайским черно-белым фарфоровым вазочкам, отчего они испуганно и тоскливо звенели, щемящим и сладким контрапунктом к победной музыке его теперешнего настроения.
Избавленный отцом от необходимости читать адрес на конверте, Сукин до самого вечера просидел в полумраке своей комнаты, с тупой педантичностью женевских ходиков, отправляя в рот один за одним французские бульдегомы, все материнские немалые запасы которых он уже давно перетаскал к себе из ее пропахшей розмарином и мятой спальни. Кисло-сладкие шары таяли у Сукина во рту, приторной аптечной слюной лишь ненадолго задерживаясь на губах и языке. Созданные растворяться и исчезать, становясь через это недосягаемой частью враждебной и чужеродной среды, они вызывали кроткую, стрекозьей легкости зависть и странной, необъяснимой природы надежду, что в свою очередь разбавляла тяжесть стыда, который Сукин принес из кабинета отца, словно темную митохондрию, в каждой клетке своего организма. И когда наконец полное замещение произошло, Сукин нашел в себе силы еще раз посмотреть на розовый продолговатый конверт с крикливой арфообразной виньеткой в верхнем левом углу, который, войдя к себе, он с такой неприязнью бросил у изголовья кровати, и поразительный свет, того предрассветного теплого молока, что исчезает немедленно после пробуждения, озарил на мгновение его унылую, серую комнату. Сукин увидел имя адресата и понял вдруг, как это делают простые бессловесные существа, только по цвету, форме и узору ориентируясь, что завтра идет к тете.
Когда в половине седьмого экономка пришла позвать его к ужину, он даже не откликнулся.
На следующее утро Сукин проснулся часа на полтора раньше обычного и холодной водой, потому что горячую еще не принесли, долго и тщательно мылся, чистил зубы и влажной расческой укладывал на удивление покорные в этот день волосы. Розовый отцовский конверт он спрятал в ранец заранее, еще вчера, а теперь вытащил из единственного замыкающегося на черный ключик ящичка своего стола беленькую коробочку, наполненную тетиными, согласно, словно солдатики, постукивающими о стенки костяшками. От этого особенного складно-дробного звука, который Сукин не слышал уже очень давно, ему вдруг стало жарко, и невпопад в груди екнуло сердце. Он не шел, а буквально разлетался солнечными пятнами, по два, по три, по четыре на совершенно безлюдном Гоголевском бульваре, как будто репетируя свое очень скорое чудесное распадение и соединение с чем-то загадочным и прекрасным, что ждало его там, где лежало прохладное пусто-пусто узкой арбатской улицы. Сукин легко нашел нужный ему дом, сливовый, с голыми молодцами, напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубями тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и позвонил.
– Еще спят, – сказала горничная, глядя на него с каким-то неожиданным, сладким удивлением. – Но ничего, вы пройдите. Они так любят, утром без доклада.
Сукин не понял, почему эта чужая женщина так улыбается, и даже слова ее дошли до него словно через какую-то серую диванную вату, потеряв свой смысл и назначение. Сердце его колотилось, и в глазах стояла такая темень, что на мгновенье Сукину показалось, что он не только оглох, но и ослеп. Когда же наконец рождественская белизна тетиного ложа предстала перед его взором, словно очищенная вдруг от жаркой, мутной поволоки, Сукин с изумлением обнаружил, что вынул из ранца и держит перед собой не розовый конверт с пошлой виньеткой какого-то романтика от прикладной графики, а белую продолговатую коробочку с магическими костяшками.
– Я вам принес... я принес вам... – начал говорить он.
– Ах ты солнышко мое, – не дала ему закончить фразу тетя. – Сам... здесь... Ах, ты брошенное дитя.
Быстрым движением она так неожиданно привлекла Сукина к себе, что целая армия быстроногих мурашей кинулась врассыпную от его тонких запястий вверх к хрупкому водоразделу мальчишеского позвоночника.
– Пуговица на одной ниточке, и шов разошелся, – между тем ласково и горячо говорила тетя, с неимоверной ловкостью снимая с него английскую курточку с хлястиком. – Зашить, починить... Аглая... А это что, фу, два пятна на самом видном месте, немедленно почистить, сейчас, сейчас... – повторяла она, молниеносно и споро спуская короткие штанишки Сукина ниже колен.
Нежные руки тети прикасались к обнаженному телу Сукина, и от них исходил легкий лесной запах ландышей. Но Сукин ощущал лишь январский чугунный холод, и крупная дрожь била его, словно дурной мальчишка, пытаясь разобрать его на палочки, как деревянного солдатика. И вдруг что-то случилось с Сукиным, что-то такое, чего никогда еще с ним не происходило. Нечто невиданное, чужое и незнакомое проросло в нем, как зеленый стебелек из черной земли.
– Ах, какой леденчик, какая сладость, – услышал Сукин голос тети откуда-то снизу, где ее жаркий лоб терся о его плоский живот, а горячее дыхание заставило неведомый росток, поднявшийся из его тела, набухнуть и увенчаться тяжелым бутоном. Ужас охватил Сукина, он попытался вырваться, бежать, но крепкая тетина рука обхватила его дрожащие ноги, прижала к себе, и жирное, словно полуденное солнце, тепло накрыло это рвущееся прямо из него наружу хищное, насекомоядное растение. Сукину показалось, что он теряет сознание, и он действительно его потерял, когда тяжелый бутон где-то там внизу взорвался в его мозгу ядовито-алым, малиновым цветком.