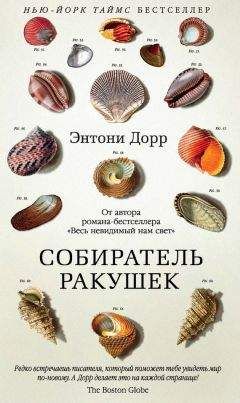Ознакомительная версия.
И вот наступил крайний срок – четвертое июля. В дымке над крышами домов загудели утренние колокола. Американцы вышли из троллейбуса и отправились на рыбалку. До полудня клева не было вовсе; в коричневатой воде висела муть, и даже удочку американцы закидывали с какой-то безнадежностью.
Вскоре раздалось топанье школьниц, которые выкрикивали английские слова в такт шлепанью тетрадками по ногам – RIVER, CHURCH, FOOLS, WALL, STONES, – весело галдя за спиной учительницы. Та повела девочек вверх по лысому склону к проспекту, а затем на Зеленый мост, где вся стайка остановилась у перил, не переставая пронзительно вопить: SIDEWALK, STATUES, FLOWERS, FOOLS, BILLBOARD, ДОЛОЙ АМЕРИКАНСКИЙ РАК!
С тихим стоном американцы зашли в воду и бросили в поток волглые кубики хлеба. Верещали школьницы, река несла свои бурые воды, американцы держали удочки в последней, безнадежной надежде – и вдруг одно из бамбуковых удилищ дрогнуло, а затем выгнулось параболой. Катушка лески начала разматываться. А удилище изгибалось все сильней, казалось, вершинка вот-вот достанет комель. Американцы решили, что леска, должно быть, зацепилась за какой-нибудь шлакоблок, шину, проржавевшую раковину или, еще того хуже, за металлическую балку в основании города. Смотри-ка, у тебя Вильнюс клюет, шутили они. Ну, теперь подсекай.
Но маленькие девочки, перегнувшись через перила, начали возбужденно кричать на литовском, кивать и тыкать куда-то пальцами. Американец с согнутой удочкой издал торжествующий клич, остальные сгрудились вокруг него и стали наблюдать за происходящим. Леска неторопливо, почти лениво ходила широкими зигзагами между берегов реки. В конце концов леска приблизилась к берегу, где стояли рыбаки, и застыла.
Счастливчик-американец поднатужился, закряхтел и подтянул добычу на мелководье, к своим болотным сапогам. От изумления он разинул рот и даже выпустил удочку; стоявшие рядом американцы также пораскрывали рты и закачали головами. Девочки на мосту принялись топать и галдеть еще громче, а потом кубарем скатились с моста и побежали по берегу канала. В паре метров от рыбаков они остановились и, вылупив глаза, смотрели на американцев, которые вытащили из воды гигантскую малосимпатичную рыбину, что лежала теперь на мощеном берегу и раздувала жабры.
Это оказался охристо-серый карп, словно впитавший в себя цвет города в самую мрачную погоду. Отвалившиеся чешуйки полупрозрачными пятидесятицентовыми монетами застыли на брусчатке. По краям изорванных плавников виднелась красная кайма, глаза без век в два раза превосходили глаза любого из американцев, а изгиб усов делал его похожим на рыцаря печального образа, который лежит на земле, страдая от ран, и глотает воздух.
Опустив руки, американцы несмело глядели вниз. Где-то наверху по мосту грохотали машины. Карп был гигантским, явно больше лосося, пойманного британцами, и уж точно больше всех когда-либо пойманных карпов. Он медленно взмахнул грудным плавником – поднял и опустил беспомощным движением.
Один из американцев обхватил обмякшую тушу, поднял рыбину перед собой и объявил, что в этом карпе живого веса никак не меньше пятидесяти фунтов. А может, и все шестьдесят. Он держал рыбу, не зная, как быть дальше. Живот карпа провис между ладонями. Из ануса нитью тянулись экскременты. Подернутое дымкой солнце грузно нависло над городом. Тяжело дыша, подбежала нахмурившаяся учительница.
Карп дернулся, лишь слегка шевельнулся, но этого ему хватило, чтобы выскользнуть из цепких рук. Упав головой на брусчатку, он немного скользнул вбок, перепачкал камни слизью и замер, лишь изредка ударяя хвостом. Американцы достали одноразовый фотоаппарат, но кнопку почему-то заело. Они стали вертеть камеру в руках; она выскользнула, упала в реку и утонула.
Карп причмокивал и ловил ртом воздух, его губы и усы слабо вытягивались вперед в форме буквы «О», а из-под левой жабры показалась тонкая струйка крови, едва заметная на фоне чешуи. Девочки заплакали. Учительница всхлипнула.
Американцы обернулись на стайку девчонок, что стояли в своих двухцветных ботиночках, разинув рты и не выпуская из рук тетради: на детских шейках – золотые крестики, на коленках синяки, челки вьются, гольфы сползают на жарком солнце четвертого июля, по щекам текут слезы. У них за спинами учительница сжимала пальцы, закусив дрожавшую губу.
Дураки, сказала она. Ну и дураки же вы.
Редко увидишь такую рыбу. И таких школьниц, и американцев, отпустивших на свободу грозного карпа, который лениво уплыл, рисуя круги на поверхности воды, в неизведанные глубины городской реки. Раздался колокольный звон, и американцы решили, что удача улыбнется им на другом континенте. На этот раз они подготовятся со всей тщательностью, чтобы не рисковать: не рыбачить в запрещенных местах, не накачиваться спиртным и не слушать советов первого встречного; отныне они будут брать двойной комплект всего снаряжения, по две удочки и по две флисовые куртки на брата; а безграничные богатства Америки – опасные трясины, поля колосящейся пшеницы и сиреневеющей в сумерках белой кукурузы, огромные магазины, искусные мастера – все и вся окажут им помощь и поддержку.
Они не проиграют – такого просто не может быть; они ведь американцы, они уже победили.
На протяжении первых тридцати пяти лет жизни Джозефа Салиби его мать застилает ему постель и готовит еду; каждое утро, перед тем как ему дозволяется выйти за порог, она заставляет его прочесть выбранный наугад столбец из английского словаря. У них обветшалый домишко в гористом предместье Монровии – это в Либерии, в Западной Африке. Джозеф – высокий, тихий, болезненный; сквозь стекла его огромных очков видно, что белки глаз у него с желтизной. Его мать миниатюрна и неутомима; дважды в неделю она взгромождает на голову две корзины овощей и отправляется за шесть миль, чтобы продать их со своего прилавка на рынке в Мазинтауне. Когда соседки заходят полюбоваться ее садом и огородом, она встречает их улыбкой и предлагает кока-колу.
– Джозеф отдыхает, – объясняет она, и соседки, потягивая колу, вглядываются в темные, закрытые ставнями окна у нее за спиной: всем представляется, что мальчик лежит в поту и бреду.
Работает Джозеф счетоводом в Либерийской национальной цементной компании, где регистрирует счета и заказы на страницах толстого, переплетенного в кожу гроссбуха. Раз в несколько месяцев он оплачивает на один счет больше и выписывает чек на свое имя. Матери он говорит, что эти дополнительные деньги – часть его зарплаты, и за эту ложь ему ничуть не стыдно. В полдень она приносит ему в контору отварной рис, напоминая, что горы кайенского перца обезоружат любую болезнь, и наблюдает, как он ест за рабочим столом.
– Молодец, – повторяет она. – Ты трудишься во имя подъема Либерии.
В тысяча девятьсот восемьдесят девятом году Либерия погружается в гражданскую войну, которая растянется на семь лет. На цементном заводе – саботаж, производство вскоре преобразовывают в партизанский военный завод, и Джозеф теряет работу. Он начинает приторговывать кроссовками, радиоприемниками, калькуляторами, календарями, украденными из офисов в центре города. Ничего страшного, твердит он себе, каждый тащит, что плохо лежит. Нам нужны деньги. Он прячет вещи в подвале и говорит матери, что хранит коробки для приятеля. Пока мать торгует на рынке, к дому подъезжает грузовик и увозит товар. По ночам он платит паре мальчишек за то, что они болтаются по округе, отгибают оконные решетки, взламывают двери и складывают ворованное у Джозефа на заднем дворе.
В основном он сидит на корточках у порога и наблюдает, как мать работает в огороде. Ее руки не пропустят ни единого сорняка или увядшей виноградной лозы и всегда соберут стручковую фасоль, методично, со звоном падающую в металлическую миску, – а он слушает пылкие материнские речи о тяготах войны и важности сохранения четко налаженного образа жизни.
– Джозеф, с войной жизнь не кончается, – наставляет она. – Нужно держаться.
На холмах вспыхивают залпы артиллерийского огня; над крышей гудят самолеты. Соседки больше не заходят; бомбежки продолжаются днем и ночью. Во мраке полыхают деревья, будто предвещая еще большее зло. Мимо дома проносятся полицейские в угнанных пикапах: стволы лежат на порожках, глаза скрыты за зеркальными очками. Джозефу хочется крикнуть сквозь тонированные стекла и хромированные выхлопные трубы: подойди, схвати меня. Только попробуй. Но он молчит, просто стоит, потупившись, и делает вид, будто занят кустами роз.
Как-то утром в октябре девяносто четвертого мать Джозефа отправляется на рынок с тремя корзинами батата и домой больше не приходит. Джозеф слоняется между грядками, слушая отдаленную канонаду, пронзительный вой сирен и безграничную тишину в промежутках. Когда наконец за холмами скрывается последний луч света, Джозеф идет к соседям. Те с порога своей спальни разглядывают его сквозь калитку и предупреждают:
Ознакомительная версия.