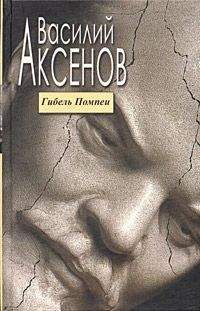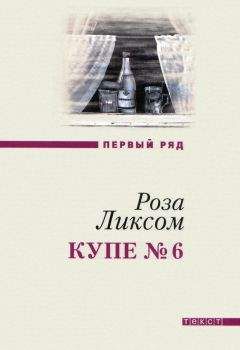– Так вы, может, из села Боровского, товарищи? – опять вскричал я.
– Мы вот с ним из Боровского, а энтот товарищ из Канина.
– Так я ведь тоже из Боровского!
– Ага, – вежливо покивали мне мужики и, глядя в окно, принялись заряжать самокрутки. Молчание длилось долго. Я краснел и бледнел, как мальчишка, проклиная свою дурацкую шляпу, и очки, и галстук, все свое городское обличье, видимо, вызывающее у них недоверие.
– А вы чей же будете? – наконец спросил сухощавый, самый авторитетный из них.
– Я Збайковых, – чуть ли не умоляюще сказал я.
– Устина Збайкова, стало быть, сын?
– Нет, Устин-то Збайков в Тивердинских выселках жил, а мы из Энгельгардовского общества.
– Ага, «Знамя труда», стало быть, – объяснил сухощавый канинскому крепышу.
– Петра Збайкова, покойного, я сын, – сказал я.
И вдруг красноносый, молчавший до сих пор, хлопнул шапкой по колену.
– Да уж не Павла ли Петровича вижу я перед собой? – гаркнул он.
– Да! Да, я Павел Петрович Збайков.
– Павел Петрович! Ну, поди ж ты! – засмеялся красноносый. – А меня-то не признаешь? Я ведь Сивков Григорий.
Сивков Григорий, Сивков Григорий… Сивковых помню из Ермолаевского общества, а Григорий?
– А ведь вместе в церковноприходскую школу ходили, фулюганили вместе, – старчески залукавился сверстник мой Григорий.
Не знаю уж, узнал ли я его или просто убедил себя, что узнал, но мы тут же стали вспоминать наши мальчишеские шалости, как будто прошло не сорок с лишним лет, а каких-нибудь десять. Мы говорили о разорении грачиных гнезд и о ловле карасей в барском культурном пруду, и о велосипеде податного инспектора – история и топография этих приключений полностью у нас совпадали, и я понял, что Григорий Сивков действительно принадлежал к нашей шайке.
– Сивков! – воскликнул я, вдруг на самом деле вспомнив. – У тебя ведь брат был мой тезка.
– Точно, – подтвердил Григорий, – признали наконец, Павел Петрович.
– Жив тезка-то?
– Кто его знает, жив ай нет? В тридцатом годе, как принято было у нас твердое решение, так он по жизни пошел. Слух был, что в казахстанской земле у него ноне хозяйство.
– А меня-то припоминаешь, Пал Петрович? – спросил худощавый. – Я Савостин Михаил с Тивердинских выселок.
– Как же, помню, как же.
– А ты-то в тюрьме сидел ай нет? – спросил Григорий. – Слух у нас был.
Невольно я усмехнулся и прикрыл глаза.
В июле 1937 года на бюро и повсюду сильно критиковали меня за притупление бдительности к врагам народа и даже стоял вопрос об объявлении мне партийного выговора, но возможности ареста я представить тогда не мог.
Веселым и жарким днем они приехали за мною.
Был день Военно-Морского Флота, и над детским парком напротив здания НКВД висели морские сигнальные флаги. Что составляли они, какие слова? Я не знал.
Вот так я и «пошел по жизни», по тюрьмам, по лагерям, по ссылкам, вплоть до 1955 года, до восстановления справедливости.
Этот детский парк я видел иногда из зарешеченного окна следователя во время допросов. Детский тот парк разбит был по моему распоряжению, проект его я обсуждал с городским архитектором, с комсомольцами-пионервожатыми. Коники его и слоники часто мерещились мне в камере после допросов, когда я отдыхал от применения ко мне «активного следствия», изобретения наркома Ежова.
В ту пору был у нас первым секретарем обкома Аугуст Лепиньш, из латышских стрелков, дельный, работоспособный товарищ, хороший организатор. Как раз перед арестом он очень сурово меня критиковал за притупление и даже, единственный в составе бюро, настаивал на исключении из партии. А ведь были мы с ним старые уже товарищи, вместе участвовали в коллективизации, проводили это самое «твердое решение» в жизнь, да и жены наши дружили. Принципиальным этот был Лепиньш, никого не щадил, включая себя самого.
Однажды в тюремном коридоре послышался какой-то шум, звуки ударов, лязг, и мы услышали голос Лепиньша.
– Коммунисты! – кричал он. – Говорит Аугуст Лепиньш! Я арестован! Приказываю всем держаться! Это чудовищная провокация! Товарищ Сталин…
Мимо нашей камеры проволокли его затихшее тело. На следующем допросе мои лейтенанты, совсем осатаневшие мальчишки, криво улыбаясь, сказали:
– Привет тебе передавал Лепиньш. Признался, что вместе с тобой шпионил для Японии.
В это время активно уже работал тюремный телеграф, ложкой по трубам отопления. Все быстро им овладели, помог дореволюционный еще опыт некоторых товарищей. Однажды сверху кто-то простучал сообщение: «Лепиньш передает Збайкову. Он умирает, просит его простить. Просит не верить клевете. Прощай. Да здравствует партия!»
Так погиб мой товарищ Аугуст Лепиньш.
– Да, – улыбнулся я односельчанам, – сидел и я. Реабилитировали.
Покивали мы головами, закурили самосаду.
– Течение жизни, – глубокомысленно изрек канинский коротышка Трофим.
– Ну что ж, старички, надо бы выпить, – предложил я и вытащил десятку.
До Ухолова ходу нам было еще часа два, и на станции Еголдаево Трофим добежал до сельпо и вернулся с тремя поллитрами и с кульком хамсы.
Поставлен был между лавками чемодан, Григорий вытащил сало, оказалось, что и стопарики граненые он как раз закупил в Ряжске, словом, все было в ажуре.
Односельчане к выпивке были охочи, но и крепки, строги. Канинский же Трофим заулыбался, закрякал: «Эх, час без горя», – и хватил. Он и захмелел прежде всех, а Григорий и Михаил Савостин вели со мной серьезный разговор, расспрашивали о Москве, как там с продуктами, делились видами на урожай, критиковали Родькина-внука, а также районное начальство. Однако воспоминания то и дело перебивали этот наш злободневный разговор.
– Эх, Пал Петрович, как я помню твою матушку, – хмельным уже голосом говорил Григорий, – бывалача, встретит она меня, паренька, и гуторит: «Ума у тебя, Гриша, палата, а дури Саратовска степь». А я тогда по девкам все шалил. Это уже после того было, Пал Петров, как ты у нас отвоевал и в другие места подался революцию ставить. Потом и меня мобилизовали, отняли у девок.
– Эх, спою я сейчас тебе, Пал Петров! – воскликнул вдруг Трофим и тонким голосом сразу взял верха. – Во-о суббо-оту-у…
– Дед Трофим, дед Трофим! – попыталась урезонить его проходящая по вагону молодуха, но мы уже все пели, старые дурни.
Во субботу, во субботу,
В день ненастный,
Нельзя в поле, нельзя в поле,
В поле работать…
И так мы доехали до Ухолова.
В Ухолове друзей моих прекрасных ждали две расчудесные подводы. Взгромоздился я на одну подводу с Григорием, другом моим замечательным, и мы покатили по городу Ухолову, по прекрасному этому центру, где рельсы уже совсем кончаются, а паровозу путь один – пятиться назад.
Был я в весьма приподнятом состоянии и не фиксировал внимания на разных мелочах, заметил лишь рядом с новым зданием клуба старую колокольню, у подножия которой на площади устраивались, бывало, наши уездные ярмарки.
Я вспомнил ярмарку, на которой был впервые двенадцатилетним мальчиком. Ошеломило меня тогда скопление людей и лошадей, мелькание разгоряченных веселых лиц, погоня за воришками, цыган с медведем, городские сладости и, главное, карусель, сумасшедшее вращение которой надолго стало для меня символом праздничной яркой жизни, отличной от будней нашего села.
Героями той ярмарки оказались наши боровские парни, три брата Бычковы, люди чудовищной физической силы. Начали они драку оглоблями и дрались долго, упорно и основательно, многих покалечили. Ухоловские городовые и мужики-добровольцы справиться с ними не могли. Не помогло вмешательство и самого станового. Бегая по площади со свистящими оглоблями над головами, гиганты Бычковы мешали ярмарке функционировать.
Кто-то из боровских догадался сбегать за их матушкой, которая в это время чаи распивала у своей ухоловской кумы. Прибежала мать Бычкова, маленькая старушечка, вскинула сухонький кулачок и как крикнет Федору, старшему брату:
– Нишкни! Игрец тебя разбери!
И тут же братья положили оглобли и затряслись от страха.
– Сымай порты, супостаты! – закричала старушка. – Ложись.
Очень ярко мне это запомнилось: шесть здоровенных прыщеватых ягодиц, маленькая старушка с хворостинкой и гогочущая ярмарка вокруг.
– Помнишь, на ярмарке были здеся, Павлуша? – спросил Григорий, кивая на белую от солнца площадь. – Бычковых братьев помнишь?
И мы затряслись от смеха, а возница, зять Сивкова, недоуменно на нас обернулся. Ухолово проехали мы быстро, и открылись родные мои веси, ничуть не изменившиеся за эти сорок с лишним лет, если не считать перетяжки высоковольтной линии да реактивных прочерков в необозримом небе.
Григорий все спрыгивал с телеги, щупал овес, пшеницу, королеву полей. Однажды во время очередного его прыжка я почувствовал вдруг что-то такое давнее, свое, такую тоску, что бывала у меня лишь в первые годы моей иной, не крестьянской деятельности, точнее говоря, почувствовал я тоску по земле, голос пращуров.