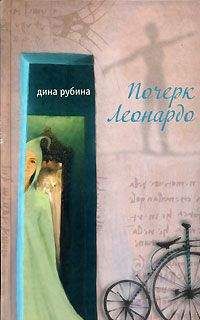Ознакомительная версия.
Она стояла у меня на пороге, я смотрел на нее и все, все в этих ужасных глазах Горгоны видел. Я в тот миг всю нашу жизнь промчал: бесконечные разлуки, неизбывные скитания, самолеты, поезда, мотоциклы… дороги, города, мотели, концертные залы… и какая-то снежная буря: поваленные деревья, машина в снегу…
Весь этот вихрь закрутился и пронесся передо мной немыслимым штопором. А может, это она мне протелепатировала? Все честно изложила, чтоб не сомневался, – скучно не будет.
И все это предлагалось мне – в мои, как писали классики, преклонные года?!
Я попятился, замахал на нее руками, и сказал: «Нет! Нет! Ради бога!»
Она вошла и закрыла за собою дверь.
…К тому времени я играл в ленинградском заслуженном коллективе и в цирках почти не подхалтуривал. Хотя случалось: заработок не из утомительных, вечерняя работа без особых затрат на репетиции. Марши, вальсы, фокстроты – не бином Ньютона.
А попал в цирковую компанию совершенно случайно, еще в студенческие годы. Друг Алешка, шикарный тромбон, затащил меня к одному приятелю, художнику.
«Он лежачий, – повторял Алешка оживленно. – Представляешь, абсолютно лежачий!» И пока мы не доехали на автобусе до Петроградской стороны и не дошли до типового кирпичного дома, я все не мог понять – зачем о калеке он говорит в таком легкомысленном тоне? Когда вошли, все прояснилось.
Художник действительно валялся на продавленной тахте с томным видом, и головы при нашем появлении не поднял. Ровно год назад, рассказывал тромбон Алешка накатанным запевом, Гриша выполнил большой заказ в цирке, заработал кучу денег. Весь гонорар ему выдали десятками; он принес их домой в пластиковой кошелке, сказал жене – все, пока не кончатся, работать не буду. И весь следующий день работал, как каторжный: обклеивал стены комнаты красненькими, по принципу рыбьей чешуи – легонько за клейкий язычок крепил червонцы рядком, один к другому, затем ряд пониже… Все четыре стены обклеил, после чего залег на тахту в великую лежку. Просыпаясь утром, любовно оглядывал чешуйчатые багряные стены, напевал задумчиво: «Утро красит нежным светом стены дре-е-е-внего Кремля…» А когда в отворенное окно залетал ветерок, стены шевелились рдяным шепотком.
Лежал художник Гриша так уже год, стены выглядели, как крона дерева осенью, сильно пооблетевшая.
Увидев нас, он обрадовался, крикнул: «Ирка, сбегай за водярой!»
Та подошла к стене, осторожно оторвала бумажку и вышла. И пока мы разогревались с морозу, явились еще трое – два крепких парня и девушка, тоже какая-то жилистая, резиновая. Сначала я принял их за ребят из Кировского, потом оказалось: цирковые. Уж больно косноязычны все трое. Балетные – они тоже не спинозы, но все-таки… Так мы с Алешкой, шикарным тромбоном, оказались среди накачанных мышц, крепчайшего мата и легкой, чрезвычайно гибкой морали. И оба радостно ринулись в эту кашу. Платили там мало, но для студентов и это были деньги. Ну а потом, даже когда играл в приличных оркестрах, я все же изредка наведывался к цирковым.
Притягивала меня эта вселенная, – с ее вереницей непередаваемых рож, со своими силачами и коверными, гимнастами, фокусниками, дрессировщиками и зверьем, с красотой мускулистых тел, с париками и накладными носищами. И с обреченной невозможностью жить иной жизнью. Была в них упругая беззаботная сила, обаятельная бездумность. Праздник забытых дорог, повозок, шатров… ненавязчивой обиходной любви.
Словом, что такое цирк и его обитатели, я знал неплохо, кое с кем дружил, со многими выпивал, а скольких выслушивал – дюжину романов настрогать можно.
Цирковые по жизни – они животные, люди тела. Сплочены, как макаки в стае, пугливы, боятся мира, доверяют только своим. Недаром они живут и работают семьями, целыми поколениями. И чужих принимают неохотно. Цирк – их природная экологическая ниша.
Вскоре я с удивлением обнаружил один существенный парадокс: в большинстве своем цирковые ленивы и не привычны к систематическому труду. Эта жизнь развращает избытком свободного времени. Репетиция час-полтора, да и то пока номер нуждается в работе. (Не считая жонглеров – те часов по двенадцать репетируют. Я знал одного, который и на толчке сидя кидал шарики.)
Если сравнивать со спортсменами, цирковых можно уподобить спринтерам. Когда аврал – могут сутками, не выходя из цирка, торчать на подвеске, устанавливать аппаратуру, готовить новый реквизит, костюмы шить. Вечером, на публике, они выкладываются полностью; а после пьют, чтобы снять напряжение. Вообще пьют в цирковом сообществе по-страшному, в основном пиво и портвейн.
Известный в свое время коверный Ким Девяткин прикладываться начинал на утренней зорьке. Едва точка открывалась. Особенно уважал портвешок «Агдам». К вечернему представлению мог запросто уговорить пяток бутылок, а работа уже шла на автопилоте. Свои репризы бережно хранил неизменными всю творческую жизнь. Лет сорок работал с собачкой Манюней, как Карандаш с Кляксой. Разумеется, Манюня время от времени уходила в мир иной, однако почти сразу возникала ее следующая инкарнация. Сочинять и репетировать новые репризы он не желал, любое творческое усилие считал блажью. И главная задача была – в конце репризы не перепутать форганг с боковым проходом, не утрюхать туда. За этим зорко следила его жена Ниночка, главный лоцман; стояла бдительной сиреной в форганге, громко звала из-за занавеса: «Кимуша, сюда, сюда!» – и тот шел на звук родного голоса.
Помню одного акробата, горького и окончательного пьяницу: на ходуле с подкидной доски он делал три сальто.
– Паша, шо ж ты водки столько жрешь? – спрашивали его. – Как завтра прыгать будешь?
– А я так, – объяснял он, – раз земля мелькнула, два мелькнула. На третьем – открываюсь.
Весь выходной, само собой, в лежку. Ну а после «зеленого спектакля» – это завершающее представление – оттягиваются уже по-настоящему, так что ясно: техников не будет дня три…
Язык, на котором они общались, процентов на девяносто состоял из мата, а на остальные десять приходились глаголы и существительные: «встал в стойку». О цирковых детях принято обычно говорить «родился в опилках», только они говорили «вышли из тырсы», и мне это нравилось: как из гоголевской шинели. Помню, воздушный гимнаст Довейко кричал кому-то в манеже на репетиции: «Я это делал, когда ты еще в тырсе валялся!»
Все интересы, волнения, интриги – все заключалось во всеобъемлющем понятии «цирк». Все разговоры вокруг цирка, все шутки, подначки. Посмеивались над «тырсовиками» – теми, кто всегда внизу: иллюзионистами, коверными, музэксцентриками, мелкой дрессурой. Цирковой элитой считались воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы – словом, группа риска.
И все были чудовищно необразованны и бедны.
Беднее цирковых не было артистов. Они, как цыгане, с легкостью адаптировались в любых условиях, жили табором, то есть семьями, в так называемых гостиницах или общежитиях; там же, в этих гостиницах и готовили на электроплитках. После спектакля я много раз ужинал с ними: каждый приносил из своей комнаты что-нибудь на общий стол – например, картошку, жаренную на плитке.
Из-за бедности все осатанело сражались «за выезд». Заграничные гастроли были единственной возможностью прилично заработать. Собственно, как и в нашей музыкантской среде. Помню, как Мравинский кричал на репетициях: «Знаю я, вам бы только тетю Машу накормить!» Это был эвфемизм, само собой. Привозили шмотки, спекулировали… Словом, «тетю Машу» кормили гастролями.
Везли кто что мог. Были такие, кто привозил по пятьсот пар колготок.
Цирковые контрабанду прятали в контейнерах, в клетках со львами и медведями. А кто туда сунется – таможенник? Ему пока собственная шея не мешает.
Одно время у меня даже был роман с некоей воздушной гимнасткой; правда, я не застал ее расцвета. Она работала на трапеции. Стояла на голове – на штейн-трапе. Такой утяжеленный медленный кач… Блондинка со скульптурными плечами, стройными, несколько подвявшими ногами и спецпоходкой, напоминавшей конский аллюр. Все это сходило за красоту. Она не пропускала ни одного юного униформиста; с похмелья, сидя за общим столом, истомно клала ногу то на стул, то на стол, гнулась, прогибалась, поглаживала подъем ступни или икру, как гладят шею лошади… Вздыхала: скорей бы под купол. Там надежней…
…Стоит ли говорить, что к той минуте, когда в мою жизнь троекратно постучала тема Рока, ни один персонаж этой конторы под названием «Цирк», ни одной романтической искры не мог во мне высечь.
И я бы эту девицу с удовольствием отправил восвояси щелчком под зад… если б не давний вечер в киевской квартире; если б не грохот, прыжки, тарарам и топот смешной девчонки и – между шалостями – точно названный день моего рождения. Да и что там скрывать – если б не странные дрожь и тяжесть, разлившиеся во всем теле, как только раздался этот стук.
Ознакомительная версия.