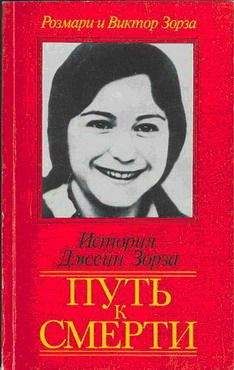— А в историческом смысле? — подсказал отец.
— Ну что ж, погляди на мир и подумай, как долго он существует — я имею в виду не отдельную цивилизацию, а все человечество вообще. Подумай о миллионах и миллиардах людей, приходивших до нас и умиравших год за годом, век за веком в течение тысяч и тысяч лет, и о всех тех миллиардах, которые придут после нас и тоже умрут. Совершенно ясно: это происходит и должно все время происходить на земле. Так почему же не примириться с этим фактом? Зачем возмущаться? Зачем бороться? Так должно быть. Так есть. И больше тут не о чем говорить.
— Да, это достаточно логично. Однако ясно и то, что я боюсь смерти, а ты не боишься.
— Ох, я тоже сначала боялась. Но у меня было много времени, чтобы все обдумать. Все эти месяцы. Мне было известно, что шансов у меня довольно мало. Случались моменты, когда я говорила себе: «Лучше бы мне умереть поскорее, сейчас, чем жить так, как я живу». Бывали и другие времена, когда я была готова предпринять что угодно, примириться с самым худшим, что могли сделать со мной химиотерапия или облучение, — со рвотами, судорогами, выпадением волос, со всем, лишь бы у меня оставался хоть какой-то шанс. Страх больше всего мучил меня по ночам. Днем, когда вокруг были люди, легче было оставаться спокойной. Ночью же, когда все уходили и я оставалась одна, я чувствовала себя такой измученной, что страстно желала заснуть, забыться. Но не могла. Лишь только я пыталась уснуть, как страх во мне вспыхивал с такой силой, что я была не в силах уснуть. Я могла думать только о раковых клетках, которые носятся вокруг моего тела или, что было еще хуже, отыскивают новые места в моем организме, проникают в него, делятся, растут. И пожирают здоровые части тела.
Джейн впервые так прямо заговорила с отцом о том, что умирает, и сделала она это только после того, как он поведал ей о своих собственных страхах. Создавалось впечатление, что она пытается помочь ему перебороть свою боязнь. Это ей не удалось, но Виктор твердо решил об этом промолчать. Вместо того он вытащил на свет другое воспоминание, которое долго хранил в душе.
— Мне думается, я знаю, что ты чувствовала. Помнишь тот случай, когда врач в первый раз сказал мне, что у меня грудная жаба? Я пришел тогда домой, и мы сидели на террасе, глядя на заходившее солнце. Я не сразу собрался с духом сообщить тебе и маме, что он мне сказал, и обе вы были ко мне так добры и ласковы и всячески успокаивали меня. А я просто сидел и не мог ничего больше из себя выжать.
— Ты держался очень мужественно, папа, я хорошо помню. Быть может, мне это передалось от тебя.
Действительно ли она считала, что он был мужествен, или же все еще старалась ему помочь? Возможно, так ей тогда показалось. Но для него диагноз врача прозвучал чем-то вроде смертного приговора, угрозой, что его в любую минуту может ни за что ни про что поразить сердечный приступ. Мысль о смерти ослепила его. Это было похоже на состояние человека, который в течение какого-то времени смотрит в упор на яркое солнце, а затем сразу же отводит глаза. О смерти он размышлять не мог. Почувствовать — да; обдумать — нет. Однако то, что он чувствовал, являлось состоянием некоего небытия, ощущением того, что он стоит перед какой-то огромной пустотой, перед внезапно разверзшейся у его ног бездной. Вот это-то состояние и называют внутренним оцепенением, мелькнуло у него в мозгу, и, содрогнувшись от ужаса, он выбросил все эти мысли из головы.
Только теперь, по подсказке Джейн, он начал снова думать об этом, думать неохотно, поскольку одна мысль влекла за собой другую, и порой он ловил себя на том, что снова переживает кошмары военного времени. Вопросы Джейн показывали, что она понимает его состояние, и старается пробудить в нем воспоминания о днях войны. Он видел, что дочь пытается ему помочь, но не смог откликнуться на ее вызов. Он еще был к этому не готов.
Всю эту неделю к Джейн приезжали друзья из Лондона. Они вспоминали прошлое, готовили ее любимые вегетарианские блюда. Диагноз доктора Салливана они знали, но Джейн отнеслась к нему спокойно, и эти дни по-доброму запомнились всем.
Каждому, кому она была дорога, Джейн хотела оставить на память о себе что-нибудь не только приятное, но и полезное. И она стала подбирать, что кому подойдет. Книги, кружки, домашняя утварь — все, что она старательно выбирала и покупала на свои сбережения или получала в подарок, останется у тех, кого она любила. Иногда, не найдя для кого-то ничего подходящего, она просила мать что-нибудь купить. Составляла с помощью Розмари списки, кому что подарить.
— Я задаю тебе столько хлопот, — порой говорила Джейн. — Все это мне надо бы сделать самой.
На это мать отвечала:
— Сейчас, когда ты еще с нами, делать покупки легче, а потом у меня, наверное, не хватило бы сил.
Иногда мать и дочь вместе плакали — расставание было неизбежным. Порой Розмари объясняла дочери, почему они ее никогда не забудут, всегда будут о ней помнить.
В их жизни она занимает так много места — как же им ее забыть? Тело ее умрет, но любовь к ней останется, и в этом смысле она будет по-прежнему жить; будет с ними. Как могут они забыть то, что узнали от нее? После нее останется так много вещей, сделанных ее руками, — предметов обихода и просто красивых вещей, которые будут напоминать о ней.
— Терять дочь очень горько, — говорила Розмари. — Одна русская женщина, Анна Ахматова, мужа и сына которой посадили в тюрьму, написала в своей поэме:
«Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не смогла».
Вот такое и у меня чувство. Но мне придется вынести свою утрату, и я знаю, что вынесу.
Джейн несколько раз выражала желание, чтобы родители усыновили какого-нибудь несчастного малыша, может быть, из развивающейся страны.
Когда Джейн заболела, мать и дочь в своих разговорах не допускали мысли о смерти. И однажды Розмари рассказала свой сон: «Он был таким счастливым, и все было как в жизни. Я умерла, и похоронили меня под дорожкой, что ведет к порогу дома, — сама бы я это место не выбрала. Солнце нагрело камни, и я это чувствовала. Очень счастливый сон». Тогда еще Розмари, смеясь, добавила:
— Когда я умру, на всякий случай ходи по этому месту осторожно!
Теперь бы она уже так не пошутила. Мать знала, что Джейн умрет раньше и никогда больше не пройдет к дому.
Но сама больная говорила о своей смерти просто, как о событии, которое должно произойти.
— Когда я умру, не зарывайте меня в землю, — вдруг сказала она, словно обсуждая фасон платья или стрижку. Джейн волновало, как распорядятся ее телом. — Я всегда жутко боялась, что меня похоронят заживо, — продолжала она. — Это — один из моих ночных кошмаров. Ты, мам, устроишь, чтобы меня кремировали?
— Конечно. Многие люди боятся того же. Обычная история. А пепел рассеять по саду?
— М-м-да. И над прудом, и над ручьем. — Джейн откинулась на подушки и закрыла глаза. В тишине вечера обе слышали журчание ручья.
Больная все быстрее утомлялась. Разработали систему сигнализации между ней и членами семьи: один звонок означал, что Джейн что-то нужно; два — она устала и надо тактично выпроводить посетителя. Кнопка была хорошо спрятана, чтобы никого не обидеть этой сигнализацией. Родные заходили в комнату больной как бы невзначай. Но она ни разу не позвонила дважды.
Боли все усиливались, и становилось ясно, что Джейн уже не встанет. Даже в ванную комнату добраться без помощи других стало ей трудно. Ноги не слушались, Джейн их еле переставляла. Сигналы мозга уже не доходили до конечностей, и ноги под тяжестью тела подкашивались. Садиться на стульчак в туалете стало мукой. Мать с отцом помогали ей, она же кричала: «За что вам такие мучения?!»
Однажды Розмари отнесла измученное тело дочери в постель, где ей не стало легче. Теперь мать знала, что Джейн никогда больше не попытается встать с постели — у нее уже нет сил бороться. Розмари позвонила доктору Салливану, и через двадцать минут он входил в комнату больной.
— Мы тебе поможем, не старайся управляться сама. Сейчас приедут нянечки. Они поправят постель, вымоют Джейн, будут подавать ей судно.
— Джейн должна как можно скорее перебраться в хоспис, — сказал доктор Салливан. — Я позабочусь, чтобы все бумаги оформили побыстрее.
Решение было принято, споры прекратились. Все стало ясно.
— Рак прогрессирует очень быстро, и мы ничем не можем ей помочь, — сказал врач. — Желающих попасть в хоспис больше, чем он может принять, и многим отказывают.
Но доктор знал, что, учитывая молодость Джейн, быстрое ухудшение ее состояния и сильные боли, ее в хоспис возьмут.
У Розмари больше не было возражений. Она поняла, что, даже имея помощницу, не сможет ухаживать за дочерью как надо. И цеплялась за надежду, что через неделю-другую лечения в хосписе ее дочь вернется домой. Когда Джейн придет время умирать, девочку должна окружать забота родных.
— Она все жалуется на ноги, — сказала доктору Розмари. — То говорит, что ногам жарко, то — холодно. Просит их растереть и говорит, что не чувствует, холодные они или горячие.