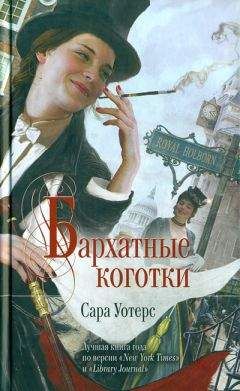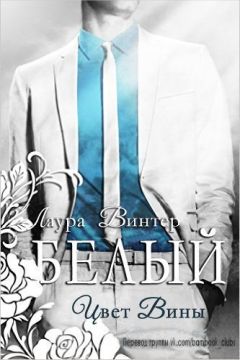Ознакомительная версия.
В чем бы ни заключался секрет, он сработал, причем сработал чудодейственно. Мы достигли не просто популярности, как прежде Китти, но настоящей славы. Наши гонорары росли, мы выступали в трех залах за вечер, а то и в четырех; теперь, стоило нашему экипажу застрять в пробке, кучер выкрикивал: «Я везу Китти Батлер и Нэн Кинг, через четверть часа они должны быть в «Ройал Холборне»! Дайте дорогу!» — и тут же другие кучера сторонились, чтобы нас пропустить, с улыбкой заглядывали к нам в окошки и приподнимали шляпы! Теперь не только Китти, но и меня заваливали цветами, приглашениями на обед, просьбами дать автограф, письмами…
Далеко не сразу я поняла, что это действительно происходит и именно со мной, не сразу поверила, усвоила, что публика ко мне благоволит. И, полюбив в конце концов свою новую жизнь, я привязалась к ней страстно. Удовольствие от успеха, полагаю, понять легко; меня больше поразило и захватило другое: я обнаружила в себе способность получать удовольствие от лицедейства, публичных выступлений, маскарада; мне нравилось носить красивую одежду, петь непристойные песенки. До тех пор мне было достаточно стоять за кулисами и наблюдать, как Китти в свете рампы флиртует с огромной шумной толпой. Теперь же, совершенно неожиданно, мне тоже довелось заигрывать со зрителями, ощущая на себе их завистливые, восхищенные взгляды. Это произошло само собой: я полюбила Китти, а затем, сделавшись Китти, полюбила немножко и самое себя. Мне нравились мои волосы, такие гладкие и блестящие. Безумно понравились мои ноги: прежде, когда они были окутаны юбками, я о них не задумывалась, но только теперь увидела, какие они длинные и стройные.
Я могу показаться тщеславной. Но я тогда такой не была и не обещала стать тщеславной, поскольку моя любовь к себе основывалась исключительно на любви к Китти. Я не сомневалась, что наш номер по-прежнему полностью принадлежит ей. Из нас двоих только она пела по-настоящему, в то время как я слабо ей вторила. Когда мы танцевали, сложные шаги проделывала Китти, я же только переступала ногами с нею рядом. Я была ее фоном, эхом, тенью, которую она, в своем блеске, отбрасывала на сцену. Однако, подобно тени, я давала ей яркость, глубину, определенность, которой не хватало раньше.
Моя удовлетворенность не имела тогда ничего общего с тщеславием. Это была исключительно любовь: чем отточенней номер, тем совершенней любовь, так мне казалось. В конце концов, наш номер и наша любовь не столь уж отличались одно от другого. Родились они в один день — или, как мне хотелось думать, номер являлся порождением любви, не более чем публичной ее формой. Когда мы с Китти впервые сделались любовницами, я дала ей обещание. «Я буду осторожна», — сказала я, и мне ничего не стоило это пообещать, так как я не предвидела никаких трудностей. Я сдержала обещание: в присутствии посторонних никогда не целовала ее, не касалась, не говорила нежностей. Но это было нелегко и со временем не становилось легче, просто превратилось в скучную привычку. Легко ли днем изображать холодность и отчужденность, когда всю ночь наши нагие распаленные тела были спаяны в крепких объятиях? Легко ли прятать взгляды, когда другие наблюдают, держать за зубами язык, оттого что другие услышат, при том что наедине я любовалась ею часами, до боли в глазах, осыпала ее нежными именами, пока не пересохнет горло? Сидя рядом с Китти за ужином у миссис Денди, стоя подле нее в артистическом фойе, прогуливаясь вместе с нею по улицам, я ощущала на себе чугунные кандалы, сковывавшие меня по рукам и ногам. Китти разрешила мне любить ее, но мир, сказала она, никогда не позволит мне быть для нее кем-то еще, кроме подруги.
Подруги — и партнерши по сцене. Вы не поверите, но в том, чтобы заниматься с Китти любовью и стоять с нею рядом на сцене, имелось нечто общее, даром что первое происходило всегда в потемках и молчании, при вечном напряжении слуха — не донесутся ли с лестницы шаги, — однако бывало проявлением страсти; на подмостках же, под лучами прожекторов и множеством взглядов, я ни на йоту не отступала от затверженного сценария и каждая моя поза было отточена многими часами репетиций. В двойном номере всегда имеется двойное дно: за нашими песнями, шагами, манипуляциями с монетами, тростями, цветками скрывался тайный язык, бесконечный тонкий диалог, о котором публика не подозревала. Этот разговор вели не языки, а тела, словами в нем служили прикосновения рук, легкие толчки бедром, взгляды, долгие или мимолетные; это значило: «Ты слишком медлишь — ты слишком торопишься — не там, а здесь — так уже лучше!» Как будто мы прошлись перед малиновым занавесом, улеглись на дощатый помост и принялись ласкаться и целоваться — а публика нам за это аплодировала, кричала приветствия и платила деньги! В свое время, когда я шепнула Китти, что, если я выйду на сцену в брюках, мне захочется ее поцеловать, она ответила: «Представляю, что это будет за зрелище!» Но как раз такое зрелище мы и демонстрировали, только публика об этом не знала. Они смотрели и видели совершенно иную картину.
Хотя кое-кто, может, и уловил наш обмен взглядами…
Я упоминала о своих поклонниках. Это были в основном девушки — веселые, беззаботные девицы, которые собирались у служебного входа, выпрашивали фотографии и автографы, дарили цветы. Но на каждый десяток или два десятка подобных девиц приходилась одна более напористая, чем другие, или, наоборот, робкая и неловкая; и в них проглядывало нечто… чему я не знала названия, понимала только, что это свойство имеется и придает их интересу ко мне несколько специфический характер. Эти девицы слали письма, родственные их поведению у служебного входа, — неумеренно эмоциональные или полные недомолвок; письма, которые одновременно и притягивали, и отталкивали. «Надеюсь, Вы простите меня, если я скажу, что Вы очень красивая», — писала одна, другая же признавалась: «Мисс Кинг, я Вас люблю!» Еще одна, по имени Ада Кинг, спрашивала, не находимся ли мы в родстве. Она продолжала: «Я так восхищаюсь Вами и мисс Батлер, но Вами — больше. Не могли бы Вы прислать мне фотографию? Как бы мне хотелось держать ее рядом с кроватью…» Фотография, которую я ей послала, была моя любимая: на ней Китти, в оксфордских штанах и шляпе-канотье, стояла, засунув руки в карманы, а я, с сигаретой в пальцах, держала ее под ручку. Я подписала ее: «Аде, от одной «Кинг» — другой»; очень странно было думать, как незнакомая девушка пришпилит фотографию к стене или вставит в рамку и будет любоваться ею, застегивая платье или лежа в постели.
Были и другие просьбы, совсем уже странные. Не пришлю ли я запонку с воротничка, пуговицу, локон? Не могла бы я вечером в четверг — или в пятницу — надеть малиновый галстук — или зеленый галстук — или приколоть к лацкану желтую розу; не сделаю ли я условленный жест, особое па в танце? Тогда отправительница убедится, что письмо мною получено.
— Выбрасывай их вон, — говорила Китти, когда я показывала ей очередное послание. — Они помешанные, эти девицы, их нельзя поощрять.
Но я знала, что они, вопреки ей, не помешанные; они такие же, какой была год назад и я сама, только в них больше смелости и меньше осмотрительности. Это само по себе вселяло волнение, но еще больше завораживала мысль, что девушки вообще на меня глядят, что в любом затененном зале могут находиться одно или два девичьих сердца, бьющихся исключительно для меня, одна или две пары глаз, что блуждают — и притом нескромно — по моему лицу, фигуре, костюму. Знают ли эти девушки, почему они так смотрят? И чего ищут? И прежде всего, когда они следят, как я прогуливаюсь по сцене в брюках и пою о девушках, чьи глаза я заставила плакать и чьи сердца разбила, — что они видят? Видят ли они то же самое свойство, которое и я в них замечаю?
— Лучше бы нет! — воскликнула Китти, когда я поделилась с ней этой идеей.
Она засмеялась, но несколько натянутым смехом. Ей не нравилось разговаривать о таких вещах.
Ей не понравилось также, когда мы однажды в комнате для переодевания встретили двух женщин — комическую певицу и ее костюмершу, — как мне подумалось, похожих на нас. Певица была довольно вульгарной, ее платье в блестках тесно облегало корсет. Прислуживала ей женщина пожилая, в простой коричневой одежде; я видела, как она натягивает на певицу платье, и ни о чем таком не подумала. Но после того как все крючки были плотно застегнуты, она склонилась, легонько сдула с шеи певицы лишнюю пудру, что-то шепнула, и обе засмеялись, тесно сблизив головы… и я поняла, яснее, чем если бы эти слова были выписаны крупными буквами на стене: они любовницы.
От этой мысли меня бросило в краску. Покосившись на Китти, я убедилась, что от ее внимания тоже не ускользнул этот жест; тем не менее глаза ее были опущены, губы плотно сжаты. Минуя нас по пути на сцену, певица мне подмигнула: «Идем ублажать публику», а ее костюмерша снова улыбнулась. Вернувшись и удалив грим, певица подошла к нам с сигаретой и попросила огонька, потом затянулась и оглядела меня.
Ознакомительная версия.