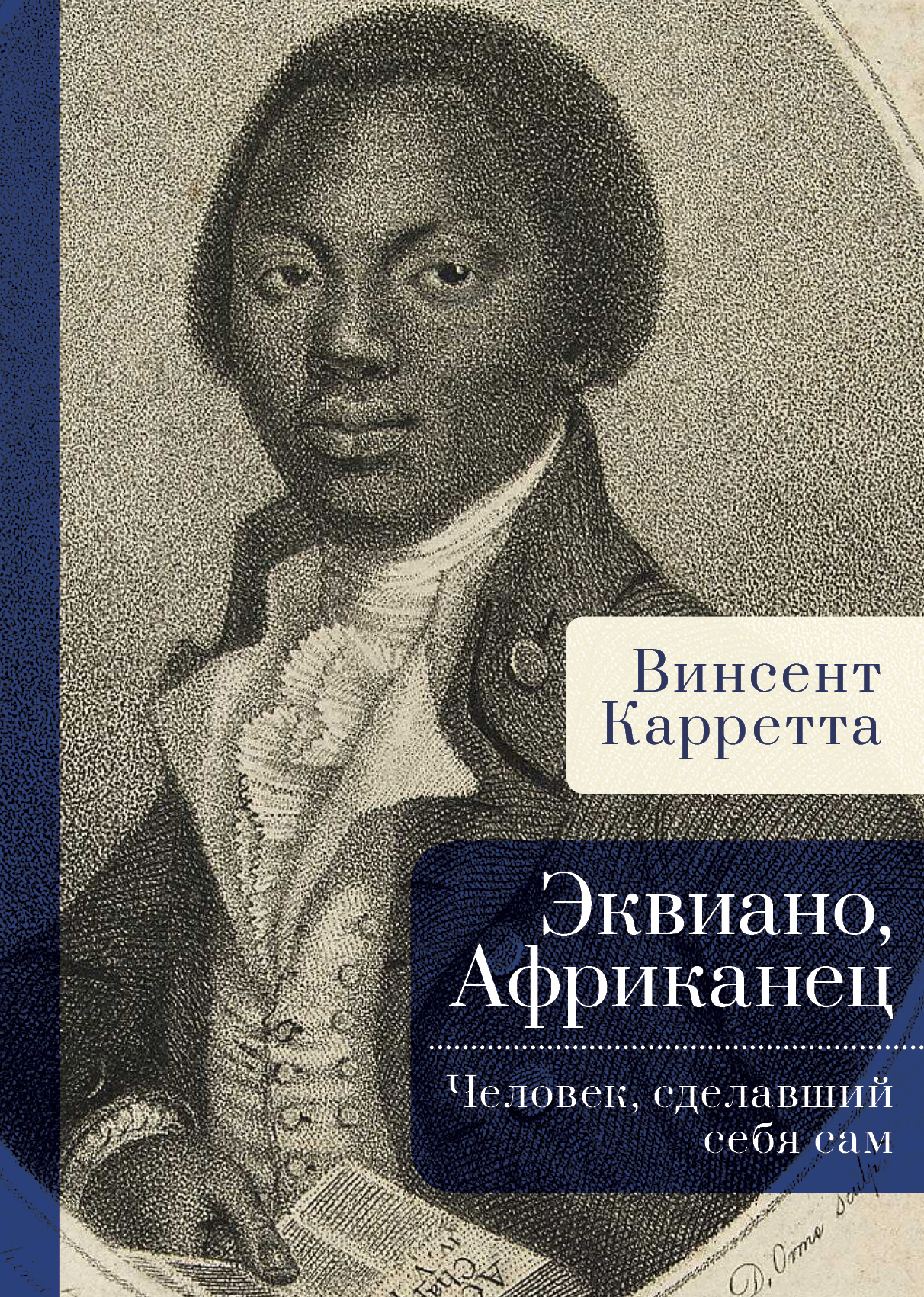Но у Ривера были особые отношения с животными. Сержант это заметил. Ему было плевать, что Ривер не смог заставить гончих выслеживать Кинни. Сержант знал, что другого белого заключенного, который мог бы справиться с этими собаками, нет, поэтому Ривер был лучшим, кто мог выучить их, поддерживать их боевой дух. Собаки обожали Ривера. Они становились томными и глупыми, когда он подходил. Я видел это, потому что Ривер попросил перевести меня с полей к нему, чтобы я ему помогал. Он видел, как больно мне было после порки. Он подумал, что, если оставить меня наедине с моим отчаянием и медленно заживающей спиной, я сделаю какую-нибудь глупость. Ты умный, – сказал он. – Маленький и быстрый. Сказал сержанту, что в полях я пропадаю даром.
Но у меня не было такого таланта к обращению с собаками, как у Ривера. Думаю, часть меня их ненавидела и боялась. И они это чувствовали. Собаки не превращались в глупых щенков рядом со мной. Их хвосты становились жесткими, спины выпрямлялись, и они замирали. Встретив Рива темным утром, они подпрыгивали и лаяли, но, завидев меня, они обращались в камень. Ривер протягивал руки к собакам, словно был священником, а они – его паствой. Они затихали, слушая его, хотя он ничего не говорил. Было что-то благоговейное в том, как они замирали все разом в голубом свете рассвета. Но когда я протягивал им свою руку, как велел Рив, и ждал, чтобы они привыкли к моему запаху, чтобы они меня услышали, они лишь рычали и клацали зубами. Рив говорил: Терпение, Ричи. Все будет. Но я сомневался. Даже несмотря на то, что собаки ненавидели меня, и я вставал, когда солнце было лишь слабым блеском на краю неба, и проводил весь день, таская воду и еду и гоняясь за этими псами, я все равно был счастливее, чем раньше, мне было почти нормально. Я знаю, что Ривер не говорил об этом Джоджо, потому что я никогда не рассказывал Риверу о том, что, когда я бежал, мне казалось, что воздух подхватывал меня. Казалось, ветер может поднять меня и подбросить в воздух, вытащить из паршивых загонов для собак, из иссеченных полосами полей, прочь от боевиков и доверенных стрелков, и от сержанта – прямо в небо. Что он унесет меня. Когда я лежал на койке ночью, а Ривер очищал мои раны, эти моменты мерцали вокруг меня, как светлячки в темноте. Я ловил их в руках и прижимал к себе, эти золотистые горсти света, прежде чем проглотить их.
Я бы сказал Джоджо вот что: Там не было места надежде.
Потом стало еще хуже, когда в Парчман вернули Свинорыла. Его звали так, потому что он был здоровенным и бледным, как свинья трехсот фунтов весом. Его челюсть была абсолютно квадратная. Рот у него был длинной тонкой линией. У него была жуткая свиная челюсть. Он был убийцей. Все это знали. Однажды он уже сбежал из Парчмана, но затем совершил еще одно преступление: застрелил или заколол кого-то, и его вернули назад. Вот что должен был сделать белый человек, чтобы вернуться в Парчман, даже если оказывался на свободе после побега: белый человек должен был убить. Свинорыл много убивал, но когда он вернулся, надзиратель поставил его над собаками, над Ривом. Он сказал: “Ненормально цветному управлять собаками. Цветной не может управлять, потому что в нем нет таких навыков”. Он сказал: “Черномазый может быть только рабом”.
Я больше не был таким легким. Когда я бежал за чем-то, я больше не ощущал, что бегу наперегонки с ветром. Ни один светлячок не мигал мне во тьме. От Свинорыла воняло. Каким-то кислым пойлом. И на меня он смотрел как-то не так. Я не замечал этого, пока однажды на тренировке с собаками Свинорыл не сказал мне: Иди за мной, парень. Он хотел, чтобы я пошел за ним в лес, чтобы погонять собак по деревьям. Свинорыл велел Риверу передать сообщение сержанту и оставить нас одних на тренировке. Свинорыл мягко положил руку на мою спину. Он постоянно хватал меня за плечи, его руки казались твердыми, как копыта, и сжимали так крепко, что я чувствовал, как моя спина выгибается, склоняясь, заставляя меня опуститься на колени. Ривер хмуро посмотрел на Свинорыла в тот день, стоя передо мной, и сказал: Он нужен сержанту. Он посмотрел на меня, мотнул головой в сторону зданий и сказал: Пошел, парень. Давай. Я развернулся и побежал так быстро, как только смог. Мои ноги бежали в темноту. На следующее утро Рив разбудил меня и сказал, что я больше не буду водить его собак, а снова пойду работать в поле.
Я хочу рассказать об этом мальчику в машине. Хочу рассказать ему, как его папа пытался снова и снова спасти меня, но у него не получалось. Джоджо прижимает златовласую девочку к своей груди и шепчет ей, пока она играет с его ухом, и его бормочущий голос похож на волны, облизывающие лодку в спокойной бухте, и я понимаю, что в его крови есть еще один запах. Вот чем он отличается от Ривера. Этот запах цветет и пахнет сильнее густой и темной грязи на дне; это соль моря, буквально кипящая. Она бьется в его венах. Отчасти потому он и может видеть меня, в то время как другие не могут, за исключением маленькой девочки. Я подвержен этому биению, беспомощный, как рыбак в лодке без двигателя и весел, которого мчит вперед течение.
Но я не говорю мальчику обо всем этом. Я устраиваюсь среди помятых кусочков бумаги и пластика, разбросанных по полу машины. Я приседаю, словно чешуйчатая птица. Сжимаю горячую чешуйку в кулаке и жду.
Глава 7
Леони
Окна приходится оставить открытыми из-за запаха. Я использовала все салфетки, которые были в бардачке, чтобы убрать грязь, но Микаэла все равно выглядит так, будто ее обмазали краской, и она вымазала всем этим еще и Джоджо, а тот не желает отпускать ее, чтобы смыть с себя рвоту. Все в порядке, – сказал он. – Со мной все в порядке. Но я вижу по тому, как он продолжает это повторять, что это неправда. Та часть меня, которая может не думать о Майкле, понимает, что Джоджо врет, что с ним не все в порядке, потому что он очень беспокоится о Микаэле. Джоджо продолжает смотреть на Мисти, которая наполовину высовывается из окна и жалуется на запах (Вы теперь его уже не вытравите отсюда, – сказала она). Я жду, что увижу его злым в зеркале заднего вида, как раньше, когда Мисти жаловалась. Но вместо этого я вижу на его лице нечто другое. Что-то иное таится в его широко раскрытых глазах и накрепко сжатых губах.
Майкл стучит в дверь. Мы все теснимся на крыльце, пахнем рвотой, солью и мускусом. Ал открывает.
– Здравствуйте. Удивительно, как вас быстро оформили! – говорит Ал.
В него в руке снова кухонная ложка, а с плеча, словно шарф, свисает полотенце. Мне жаль его домработницу, если она у него есть, потому что я почти уверена, что он никогда не моет за собой кастрюли, а просто складывает их одну на другую на кухонном столе. Когда он не в своем кабинете, он вечно что-то стряпает.
– Микаэле все еще плохо. – Мисти проталкивается мимо всех нас и проходит через входную дверь.
– Ну, это никуда не годится, – говорит Ал и отходит назад, чтобы остальные могли пройти внутрь.
Джоджо идет последним; Микаэла все цепляется за него, а он не желает ее опустить на пол.
– Чистые полотенца лежат в шкафу в коридоре, – говорит Эл. – Вам всем надо бы помыться. Мы с Мисти съездим в магазин за лекарствами.
Мисти кивает и выглядит довольной тем, что ей удастся проехаться в незаблеванной машине.
– В кладовке хлеб и имбирный эль, – продолжает Ал. – Не знаю, почему я об этом забыл вчера.
Ал внимательно рассматривает ковер, затем поднимает глаза и обтирает полотенцем лицо.
– Ах да, вспомнил. – Он улыбается мне и Майклу. – Я был поражен своей чудесной компанией и их дарами, не так ли?
Майкл протягивает руку. Она покрыта мозолями от работы в Парчмане: от ухода за дойными коровами и курицами, от грядок. Он рассказал мне, что начальник тюрьмы подумал, что было бы неплохо заставить зеков снова работать на земле, что ему было жаль земель Дельты, пропадающих зря, когда у него есть так много трудоспособных и ничем не занятых мужчин. Но это зацепило что-то в Майкле. Ему понравилось, писал он мне в своих письмах. Он хочет, когда наконец вернется домой, чтобы мы завели сад, где бы мы в итоге ни оказались. Даже если бы это был лишь ряд горшков на бетонной плите. Когда у меня руки в земле, я ни о чем не тревожусь, – сказал он. – Будто говорю пальцами с Богом. Рука Ала выглядит большой и мягкой, и когда он пожимает руку Майклу, она окутывает последнюю, как конверт.