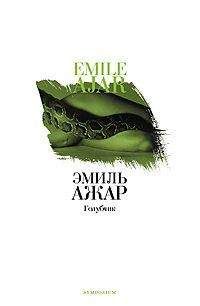Вошел в отличном самочувствии, присвистывая.
Природа требовала свое. Я был доволен и достал из ящика Блондину. Открыл пасть, чтобы заглотнуть ее, но едва прикоснулся к ней языком, как спохватился: ведь я не признаю законов природы. Приспособление, среда и прочая ерунда вроде священного права па собачью жизнь — нет, дудки! Есть хотелось зверски, мышь была уже на языке, оставалось только проглотить, но я не поддамся так легко этим паскудным законам. И я нашел в себе силы положить мокрую, как мышь, Блондину на место. Не хочу и не буду как люди.
Сон не шел, я то и дело вскакивал и бежал в ванную промывать зад, но это не помогало.
Голос природы урчал в животе, но я дотерпел до утра и отдал Блондину хозяйке «Рамзеса» — ей давно хотелось завести что-нибудь маленькое, тепленькое, живое, с нежными ушками — не все же думают только о жратве. Вернувшись, нашел трех мышей, которых принесла мне мадам Нибельмесс, и не устоял: проглотил двух разом и, свернувшись клубком, завалился спать в углу.
* * *
Прошло несколько дней — не знаю точно, сколько, — и как-то утром я отнес Голубчика в зоопарк. Больше он мне не нужен, я отлично чувствовал себя в собственной шкуре. Он уполз с полнейшим безразличием и обвил дерево, как будто не видел разницы. Я же вернулся домой и подмыл зад. На минуту я поддался панике, мне показалось, что я не я и что я стал человеком. Смешные страхи: я им всегда и был. Просто воображение подчас играет с нами дурные шутки.
Часам к трем я ощутил прилив дружеских чувств и пошел в «Рамзес» проведать Блондину, но коробка стояла пустая. Одно из двух: или хозяйка ее пересадила, или уже слопала.
Пришел назад ни с чем. Меня трясло, мучил мысленный зуд во всем теле. Тогда я сел и насочинил кратких объявлений, факсов и телеграмм с оплаченным ответом, но отправлять не стал: мне ли не знать, как одинок удав в Большом Париже и как предвзято к нему относятся. Каждые десять минут я бегал в ванную и драил зад до блеска — не помогло и это.
В пять часов я понял, что дело плохо и надо найти другое решение, верное и без свойственных заблуждений, не идущее, однако, вразрез с моим непоколебимым антифашизмом. Тоска по чему-то отличному, подручному и безупречному была так сильна, что я сломя голову бросился на улицу Тривиа к часовщику с намерением завести ручные часы. Выбрал особь со светлым, приветливым циферблатом и парой тонких чутких стрелок. Часовщик рекомендовал мне другой, «более совершенный» экземпляр.
— Эти не нуждаются в заводе. Они кварцевые и будут идти сами целый год.
— Но мне, наоборот, нужные такие, которые во мне нуждаются и останавливаются, если я о них забываю. С личным контактом.
Как все люди, привыкшие жить по-человечески, он меня не понимал.
— Часы, которые без меня не обойдутся. Вот эти…
Я сжал часы в ладони. И почему-то вспомнил о фиалках. Такой уж я привязчивый. Часы в ладони пригрелись. Я разжал пальцы — циферблат улыбался. Значит, у меня талант внушать дружескую улыбку часам.
— Это «Гордон», — значительно сказал часовщик.
— Сколько они стоят?
— Сто пятьдесят франков.
Столько же, сколько мадемуазель Дрейфус, — явный знак свыше.
— Но у этой модели нет гарантии, — сокрушенно сказал часовщик, выдавая тайную тревогу.
Дома, наскоро подмыв зад, я скользнул в постель, сжимая в руке свои часики. Если запастись терпением и хлебными крошками, можно приманить на ладонь и так же ухватить воробушка. Но всю жизнь на воробьях и крошках не продержишься, к тому же воробьи рано или поздно улетают в силу неумолимой невозможности. В самой середине круглой часовой рожицы красовался носик-точка, стрелки раздвигались в улыбке, правда, это зависело от времени (понятно, нельзя же улыбаться все время). Когда я был маленьким и жил в приюте, то зазывал к себе по ночам большого доброго пса, которого сотворил силой воображения вкупе с потребностью в ласке и наградил черной мордой, длинными, трогательными (для рук) ушами и человечески-нечуждым взглядом. Он приходил ко мне в дортуар каждый вечер и облизывал лицо, но потом я вырос, и тут уж он ничего не мог поделать.
Так, с часами в руке, я пролежал всю ночь. Наконец я обрел что-то человеческое и в то же время неподвластное законам природы — тикать они на них хотели! Только иногда приходилось вставать, чтобы подмыть в ванной зад. Утром я проглотил последнюю мышь — чтобы настроиться и лучше приспособиться к среде. Через пару деньков нарочно забуду завести Франсину, пусть почувствует, как я ей необходим. Я окрестил свои часы Франсиной в честь некой одноименной личности.
Ходить на работу я не мог — боялся выдать себя в силу нехватки мнимости. Хотел объявить голодовку, но на мадемуазель Дрейфус свет клином не сошелся. Два дня кое-как продержался без пищи, но законы природы взяли верх, и когда на третий мадам Нибельмесс принесла мне корм, я поднялся во всю длину и взял у нее из рук коробку с шестью мышами. Одну тут же проглотил из учтивости и дабы продемонстрировать почтенной женщине, что я нормальный человек. Во избежание ненужных разговоров.
— О, месье Кузен! — воскликнула мадам Нибельмесс.
Я промолчал. Хочет, пусть называет меня Кузеном. Только засмеялся, взял за хвост вторую мышь и миролюбиво проглотил ее тоже. В мегаполисе с десятимиллионным населением надо поступать как все. Соблюдать видимость с ног до головы.
Мадам Нибельмесс, видно, убедилась окончательно, поскольку выбежала вон и больше не являлась.
На другой день я возобновил обычную жизнедеятельность — пошел в управление и до вечера просидел за IBM. Никто не заметил моего отсутствия. Только билетик метро понял мое состояние и при выходе остался у меня в руке, не покинул в трудную минуту.
Ночью в постели я болезненно ощущаю нехватку рук — рук мадемуазель Дрейфус; но так, я читал, бывает: боли в несуществующих конечностях после ампутации мучают всех увечных. Зато я стал улавливать ободряющее бульканье в радиаторе — какая-никакая поддержка извне. На пятый день нового этапа подпольной борьбы за освобождение меня одолела философия. Все делятся на одних и других, думал я. Причем другие тоже одни, только сами не понимают. Запутанный и никому не нужный узел, а мне так и подавно, у меня своих узлов хватает.
Приходится пускаться на хитрости, чтобы соседи на меня не донесли. Например, ставить на полную громкость пластинку Моцарта с тонким расчетом — пусть думают: раз слушает Моцарта, значит, человек. При немцах было куда проще: получил поддельный паспорт и живи себе спокойно.
С Жаном Муленом и Пьером Броссолетом я поговорил откровенно и объяснил, что больше не могу их укрывать. Сказал, что теперь нужны предельная бдительность и изворотливость. Они все поняли. Одного убедил калюирский опыт, другого — шесть этажей без лифта. Итак, я снял оба портрета со стены и сжег — пусть будут в полной безопасности и сохранности, в самой глубине души. Внутреннее подполье — самое надежное. Я пообещал каждый день делиться с ними лучшей пищей и не полениться купить побольше батареек для электрических фонариков — нельзя же все время оставаться в темноте, должен быть луч света.
К мадемуазель Дрейфус в бордель я не заходил, мне нечего предложить молодой независимой женщине. Признаюсь, однако, что продолжаю регулярно мыть зад на биде — без мечты не проживешь. А вообще-то, если я и думаю о мадемуазель Дрейфус, то только для того, чтобы удостовериться, что о ней не думаю, то есть для душевного равновесия.
Живу в мире и согласии со своими ручными часами. Хоть они и без гарантии, но исправно, как обещал часовщик, останавливаются всякий раз, когда я их покидаю. Я по-прежнему убежден, что полноценная единица складывается только из двоих, хотя допускаю возможность свойственного заблуждения. Свыше часто слышатся шаги профессора Цуреса, который носится с правами человека и кровопролитиями. Я все жду, не снизойдет ли он ко мне, но, плотно окопавшись на своем высоком посту, он бодрствует в одиночку, одержимый неусыпной деятельностью.
В управлении тоже все нормально. Я бдительно сохраняю человеческий облик, так что на меня не обращают внимания. Уборщик достукался: его засекли и уволили. Я по нему нисколько не скучаю, хотя думаю о нем с удовольствием, радуюсь, что больше не нападу на него в коридоре. Случается, правда, — да и с кем не бывает! — накатят подспудные поползновения, но я употребляю патентованные средства заглушения. В настоящее время любой органический недостаток легко восполнить с помощью полноценных, общественно полезных, искусственных членов. Из разговоров коллег я знаю, что в социуме наблюдаются кричащие болевые точки, но их крик подавляется статистической массой. Иногда я поднимаюсь среди ночи и развиваю гибкость на будущее. Катаюсь по полу, скручиваюсь в узел, извиваюсь и пресмыкаюсь — вырабатываю полезные навыки. Получается удачно, просто до ужаса, как на самом деле. А говорю я это для пресечения досужих домыслов.