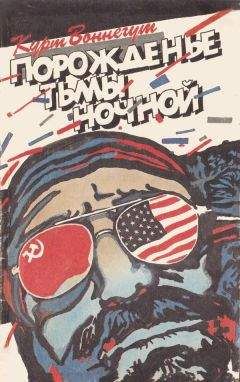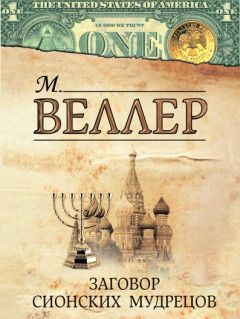— Так скажи мне, ради чего же тогда стоит жить, — взмолилась Рези. — Пусть не ради любви. Ради чего угодно! — Она обвела рукой убогую подвальную комнатенку, и в жесте ее выплеснулось мое собственное восприятие мира, как барахолки. — Я готова жить ради этого стула, ради этой картины, этой трубы, этой кушетки, этой трещины в стене! Только скажи мне, что ради них стоит жить, и я буду ради них жить! — рыдала Рези.
Обессилившие ее руки легли на мои плечи. Она плакала, закрыв глаза.
— Пусть не любовь, — прошептала Рези. — Пусть что угодно. Только скажи.
— Рези… — мягко позвал я.
— Скажи! — и руки ее, вдруг снова налившись силой, сжали мне пиджак.
— Я уже старик… — беспомощно выдавил я. Это была трусливая ложь. Никакой я не старик.
— Что ж, старик. Скажи мне, ради чего стоит жить, чтобы и я могла ради этого жить, здесь — или за десять тысяч километров отсюда. Скажи мне, ради чего собираешься дальше жить ты, чтобы и мне тоже захотелось жить дальше!
В этот момент в дом ворвались.
Стражи закона лезли во все двери, размахивая оружием, заливаясь свистками и ослепляя всех светом ярких фонарей, хотя и так было достаточно светло.
Их набралось целое полчище, и они зашумели при виде мелодраматично злобной символики, украшавшей подвал. Так шумят при виде рождественской елки дети.
— Это лишь доказывает мою правоту.
— Чем же?
— Тем, что евреи пролезли повсюду, — отвечал Джоунз с улыбкой логика, доказательств которого не опровергнуть никому.
— Вы — против негров и католиков, — продолжал сотрудник, — но самые близкие ваши друзья — негр и католик.
— Что ж здесь странного? — удивился Джоунз.
— Но разве вы не ненавидите их?
— Разумеется, нет. Ибо мы верим в одно и то же.
— Во что?
— В то, что славная в прошлом наша страна попала в не те руки, — заявил Джоунз, на что отец Кили и Черный Фюрер согласно кивнули. — И чтобы вернуть ее на путь истинный, — продолжал Джоунз, — надо снести немало голов.
Никогда мне не доводилось видеть более наглядной демонстрации тоталитарного образа мышления в действии. Образа мышления, который можно уподобить системе шестеренок со спиленными наобум зубьями. Такая разлаженная машина, приводимая в действие заурядным, а то и угасающим либидо, дергается рывками, шумно, гулко и бессмысленно, словно какие-то адовы часы с кукушкой.
Старший фэбээровец ошибочно заключил, что зубы шестеренок в мозгу Джоунза стерлись совсем.
— Вы напрочь выжили из ума, — сказал он.
Но Джоунз вовсе не выжил напрочь из ума. Весь ужас ума классического тоталитарного склада в том и заключается, что механизм его, хотя и деформированный, сохраняет по своей периферии целые кусты шестеренок с зубьями, мастерски выточенными и сохраняемыми в безупречной форме.
Вот и получаются адовы часы с кукушкой: безупречно отсчитывают восемь минут двадцать три секунды, а затем скакнут на четырнадцать минут вперед. Безупречно идут два часа одну секунду, а затем скакнут на целый год.
Зубчики же, которых в шестеренках не хватает, и есть те очевидные простые истины, которые по большей части доступны и понятны даже десятилетним детям.
Своевольно и своенравно спиленные зубцы шестеренок, своевольное и своенравное искажение определенных очевидных единиц информации и сводят под одной крышей в относительной гармонии людей столь разнообразных, сколь Джоунз, отец Кили, вице-бундесфюрер Крапптауэр и Черный Фюрер.
И объясняют, как в моем тесте сочетались и безразличие к рабыням, и любовь к голубой вазе.
И как мог Рудольф Гесс, комендант Освенцима, перемежать гениальную музыку командами трупоносам по лагерному радио…
И неспособность нацистской Германии различать существенную разницу между цивилизацией и гидрофобией.
И лучшего объяснения сути легионов, целых наций безумцев, виденных мною в жизни, мне не найти. В попытке же моей изложить это объяснение языком сугубо техническим сказывается, пожалуй, то, чьим сыном я был. Чей сын я есть. Ведь если вспомнить, хоть и вспоминаю я об этом нечасто, то, в конце концов, я все-таки сын инженера.
Поскольку больше меня похвалить некому, я похвалю себя сам — за то, что никогда не выламывал зубьев произвольно из шестеренок моего мыслительного механизма, какой уж он там ни есть. Видит Бог, у некоторых моих шестерней зубьев не хватает — одни так и не выросли с рождения, другие — стерлись на пробуксовках истории…
Но ни единого зубца своего мыслительного механизма я не спилил сознательно. Ни разу не говорил я себе: «Вот без этого факта я обойдусь».
Говард У. Кэмпбелл-младший воздает себе хвалу! Бьется еще в старикашке жизнь!
А там, где есть жизнь…
Там — жизнь.
Человек десять — все как на подбор молодые, розовощекие и брызжущие добродетелью — окружили нас с Рези и Крафта-Потапова, отобрали у меня пистолет и обыскали всех в поисках иного оружия, пока мы стояли, обмякнув, словно тряпичные куклы.
Сверху по лестнице спускалась еще одна группа фэбээровцев, конвоируя преподобного Лайонела Дж, Д. Джоунза, Черного Фюрера и отца Кили.
Посреди лестницы доктор Джоунз остановился и обернулся к своим гонителям.
— Я делал то, — величественно заявил он, — что должны были бы делать вы. Вот и вся моя вина.
— И что же мы должны были бы делать? — спросил сотрудник, явно руководивший операцией.
— Защищать Республику! — ответствовал доктор Джоунз. — Нас-то чего травить? Мы лишь стремились упрочить нашу страну! Объединяйтесь с нами, и мы вместе возьмемся за тех, кто пытается ослабить ее!
— И кто же это? — спросил сотрудник.
— Я еще должен вам объяснять? Неужели вы сами не знаете — на вашей-то работе? Евреи! Католики! Негры! Азиаты! Унитариане! Иммигранты, не способные усвоить дух демократии, играющие на руку социалистам, коммунистам, анархистам, антихристам и евреям!
— К вашему сведению, — с видом холодного превосходства ответил сотрудник, — я — еврей.
39: РЕЗИ НОТ ОТКЛАНИВАЕТСЯ…
— Я жалею лишь об одном, — возвестил доктор Джоунз начальнику фэбээровцев с лестничных ступенек, — о том, что у меня нет еще одной жизни, чтобы отдать за свою страну и ее!
— Ничего, ничего, мы уж постараемся, чтобы вам нашлось еще о чем пожалеть, — заверил его фэбээровец.
Железные гвардейцы белых сынов американской конституции сгрудились в каминной. Некоторых охватила истерика. Паранойя, годами прививаемая им родителями, внезапно обрела зримые черты — вот они, гонения!
Один юнец, вцепившись в древко американского флага, размахивал им вовсю, колотя орлом на наконечнике древка о трубы отопления.
— Это — флаг вашей страны! — вопил он.
— Сами знаем, — отвечал старший фэбээровец. — Отнимите! — скомандовал он своим.
— Этот день войдет в историю! — заявил Джоунз.
— Все они входят в историю, — ответил старший и добавил: —Ладно. Где здесь человек, именующий себя «Джордж Крафт»?
Крафт поднял руку чуть ли не в бодром жесте.
— Тоже скажете, что это — флаг вашей страны? — скривил губы старший.
— Надо бы взглянуть поближе, — ответил Крафт.
— Ну и каково сознавать, что приходит конец столь долгой и славной карьеры? — продолжал старший.
— Любой карьере рано или поздно приходит конец, — пожал плечами Крафт, — я-то это давно понял.
— О вашей жизни, чего доброго, еще фильм снимут, — заметил старший.
— Возможно, — улыбнулся Крафт, — но задешево я авторского права не уступлю.
— Хотя на вашу роль лишь один-единственный актер и сгодится, — сказал старший, — но его вряд ли уломаешь.
— Это кто же? — поинтересовался Крафт.
— Чарли Чаплин. Кому же еще играть шпиона, непросыхавшего с 1941-го по 1948 год? Кому же еще по плечу сыграть русского резидента, создавшего агентурную сеть, почти целиком состоявшую из агентов американской контрразведки?
Светская учтивость разом слетела с Крафта, мигом превратившегося в бледного сморщенного старичка.
— Врете! — выдохнул он.
— Спросите свое начальство, если мне не верите, — пожал плечами фэбээровец.
— Они знают?
— Догадались, наконец. Дома вас ждала пуля в затылок.
— Почему же вы спасли меня? — спросил Крафт.
— Можете считать — из сентиментальности.
Крафт призадумался. Тут-то самым замечательным образом и пришла ему на выручку шизофрения.
— Все это меня никоим образом не касается, — заметил Крафт, и светская учтивость вновь полностью овладела им.
— Почему? — удивился старший.
— Потому, что я — художник, — пытался объяснить Крафт. — И это в моей жизни — главное.
— Не забудьте прихватить палитру в тюрьму, — посоветовал старший и переключился на Рези. — А вы, разумеется, Рези Нот.