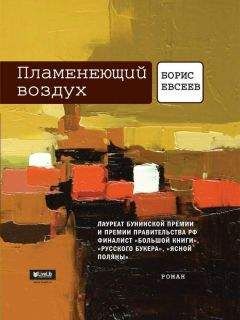Ознакомительная версия.
Не враз, а дошло: Орфеус!
Ровно через неделю — и уже безо всякого Петруши — отправился Евстигней в притиснутую к скалам тратторию: заглянуть потихоньку в ад, вывести на свет Божий — то бишь на Пьяцца Маджоре — Езавель-Эвридику.
В траттории, в задних комнатах, снова оставался до утра.
Правда на сей раз кое-что изменилось. То ли сама Езавель стала какой-то иной, то ли Евстигнею от пряного хмелю это просто почудилось.
Ночью проснулся он от вполголосого пенья. Таких диких и одновременно прекрасных напевов слышать ему еще не доводилось!
Внезапно пенье оборвалось. Езавель вскочила с ложа (сквозь опущенные ресницы Евстигней еще раз подивился прозрачной ее наготе и легкой, но оттого еще сильней волнующей полноте), стала ходить по комнате, бормоча по-италиански:
— О, Ахирам, царь Библа… Ахирам, о-о-у! Твоя обитель — загробное царство. Прими же меня в этот пылающий огнем, сжигающий душу до дыр, спекающий ее до угольков до черных мир! Мир глубочайший, неизведанный! Вместе с временным спутником моим, Ахирам, прими!
Из расселины стал подыматься зеленоватый плотный туман. Скоро он достиг прорубленных в скале окон, стал вползать в покои…
— Нельзя!.. Нет!.. Рано! — крикнул, просыпаясь по-настоящему, Евстигней.
Езавель подхватила с сундука легкую ткань, в нее завернулась, вновь присела на ложе. Туман стал рассеиваться.
— Чего всполошился, варвар? Все тобою услышанное — только далекое будущее, — потянулась она к гостю.
Евстигней отстранился.
Рядом на ночном столике тускло сиял серебряный кувшин дивной старинной работы. Отстраняясь, Евстигней задел его. Кувшин упал. Снова — как и тогда, когда кувшин с вином уронил Петруша, раздался щемящий звон, плеск. За окном стало быстро светлеть. Ночь — сперва на неуклюжих высоких ходулях, а затем на карнавальных прыгучих пружинах — начала сбегать в теснины…
Евстигней засобирался домой, в монастырскую гостиницу.
Здесь всполошилась Езавель. То ли жадничая отпускать, то ли, наоборот, желая побыстрей выпроводить, — гладила и обнимала она гостя. Рот ее при этом кривился, губы резко подрагивали.
— Через неделю… Вернусь, вернусь… — вырывался из объятий Фомин.
— Ты можешь и не застать меня, — Езавель прижалась к нему сильней, зашептала страстно: — Знай же! Я люблю Ваала и люблю Аштарат, по-здешнему — Астарту. Но и тебя, северный варвар, люблю, — голос ее ослабел, стал рваться посередке слов. — Да, я была женой израильского царя Ахава. Не я — так моя прародительница. Это не имеет значения: я ли, она ли… Мы с нею — одно! Знай же и то, что за чистоту и преданность своему богу — была я выброшена из окна, подобного этому, прорубленному в нашей траттории, и растоптана всадниками, а затем растерзана собаками. Но хуже всего: мою прародительницу, а значит и меня — оклеветали навек. Однако я никого не убивала, не была заносчивой и высокомерной. А вот любила — да. И не только, как про то лгали подданные Ахава, одного бога Ваала!
— Что ты несешь, несчастная!
— Я не заговариваюсь. Отнюдь! Просто ты не понимаешь меня, северный варвар. Ты ведь из дикой страны…
— Вовсе не из дикой… Она… Она…
— Не прекословь мне. Тем более что страна твоя дикой вскоре быть перестанет. Не прекословь и не учи меня! Иначе — Библ и Гебал на твою голову! Библ и Гебал!
— Ты говорила: Библ и Гебал — один и тот же город.
— Разум мой пока не мутится. Гебал — по-древнееврейски. Библ — по-финикийски. Наш язык может все! А наш алфавит еще мощней нашего языка! Он отворяет двери темниц и двойные монастырские подвалы, подымает со дна затонувшие корабли и делает свежим масло олив в затопленных амфорах. Наш алфавит — пурпурный! Он того цвета, который бывает лишь в раю! Но если железную вязь алфавитов, если змеиные укусы и тонкий яд языков — их и нашего — безумно смешивать… Тогда… Тогда оба языка, оба способа мыслить и жить — несчастьем на ваши варварские головы как раз и падут! Постой же… Я научу тебя бессмертной финикийской любви. Она бывает грубой (отведи ногу в сторону, варвар), она бывает нежной (я опущусь на колени). Но она бессмертна, потому что бессмертно семя, напитавшее когда-то наш язык…
Через неделю Евстигней явился в тратторию в третий раз.
Тут ждал его удар: разящий, тяжкий. Четыре дни тому назад Езавель с братьями отбыла сперва на остров Сардинию, а уж оттуда — в Дамаск.
Что было делать? Горевать? Снаряжаться матросом? Пробираться тайком на корабль? Плыть морем в никому не известный и оттого враз опостылевший Дамаск?
Выход нашелся сам собой: ни в ад кромешный, ни в Дамаск Евстигней не отбыл. Падре Мартини — воспитатель дотошный, наставник заметливый — призвал к себе, стал говорить кротко, вдумчиво:
— Грехи привязаны к молодости, как веревка к рясе. Сам грешен, знаю. Но только ты, Еусигнео, сидонитку свою забудь. Не доведет тебя до добра связь с ней.
В который раз уж подивился Евстигней ловкости монастырских шпионов.
Вслух, однако, сказал о другом:
— Не сидонитка она! Финикиянка нежная, Езавель ночная...
— Слушай, что говорю тебе. — Оттого что пришлось перебивать строптивого студиозуса, падре Мартини поморщился. — Слушай же. Тратторию ту забудь. Говорили мне: там нечисто! Иезавель твоя не приемлет Библии, молится идолу Ваалу! Даже вспоминать ее перестань.
— Она говорила: их алфавит и письмо могут всё! Якобы содержат они в себе землю и воду, верфи и корабли, голоса морей и нами неслышимые небесные звуки: их длительность, их высоту, их силу…
— Не верь ей. Учи латынь. Суховата латынь, а сладостна. Да же в молоденьких безмозглых головах ум от нее заводится…
— Езавель сказала: русское письмо — тоже из Финикии.
— Гм. Это, может, и правда. Только что это доказывает? Ты лучше выслушай и запомни другое. Запомни слова Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Имею против тебя то, что ты терпишь эту женщину, Иезавель, которая называет себя пророчицей и учит и вводит в заблуждение рабов моих, чтобы они совершали блуд и ели пожертвованное идолам». Та Иезавель и эта — много общего меж собой имеют!
Старый францисканец замолчал. Молчал и Евстигней. Тогда падре сказал то, о чем поначалу говорить не собирался.
— Ты ведь назван в честь Евсигнея-мученика. Не все, кто назван в честь мучеников, мучения при жизни испытывают.
Однако тебе — если не опомнишься и женскому коварству покорствовать не перестанешь — возможно, такое и суждено. Ты ведь человек, в любви до конца верный. А женщины… — тут падре побледнел слегка. — Женщины по природе своей верными быть не могут. И уж если суждено тебе надсаду и муки претерпеть — так хоть не от женщин их прими. А за дело Господне. Как Евсигней-мученик.
— Кто был сей мученик, падре?
— Жил Евсигней-мученик в третьем веке по Рождеству Христову в римских провинциях, а после и в самом Риме жил. Служил императорской власти долго, и служил честно. Простым солдатом служил. А в конце жизни своей стал обличать язычников. Резко, страстно. За это сам Юлиан Отступник повелел голову ему отрубить. Это стодесятилетнему старцу!
— И отрубили?
— Отрубили. Но ведь сто десять лет не отрубишь! Да и тяжкие обличения от солдатской души не отделить…
— Я тоже солдатский сын…
— Тем-то с Евсигнеем-мучеником и схож. Только тебе и половины от ста не прожить, если сидонитку свою не позабудешь!
Евстигней замолчал. Про себя же засомневался и закручинился:
«Отчего та древняя, библейская Иезавель — не пророчица? А другие — так те пророчицы? Господу нашему Иисусу — верю. Да только все ли слова его верно падре пересказал? И еще: для чего даже и столетняя жизнь, когда в ней ни Езавели италианской, ни Езавели петербургской — Алымушки — не будет?»
Впрочем, совету старого францисканца Евстигней внял: в Италии более не блудил.
Глава восемнадцатая Воздух Болоньи, письма из России
Падре Мартини дряхлел.
Воздух Болоньи, некогда им со сладостью впиваемый, восторгов более не вызывал. Красные крыши города виделись из монастыря все тусклей. А охра городских стен — та, наоборот, резала глаз. Беготня болонских тротуаров, быстрый крутеж каменных лесенок ныне воспринимались лишь как доводящее до обморока головокруженье.
Одна только мнимая изгородь, протянувшаяся от монастыря Сан-Франческо до Пьяццо Маджоре, изгородь из ловко и бережно сплетенных звуков, изгородь, называемая полифонией, — была неразрываема, крепка.
А все видимое, наоборот, мельчало, рвалось, делалось излишним.
Пора было готовиться к переходу в мир иной.
Однако о мире ином падре думал меньше, чем о том, что оставит здесь, в монастыре и в Academia filarmonica, долгие годы незаметно им направлявшейся по единственно верному пути.
Продолжением и развитием заданной музыкальной темы был контрапункт.
Ознакомительная версия.