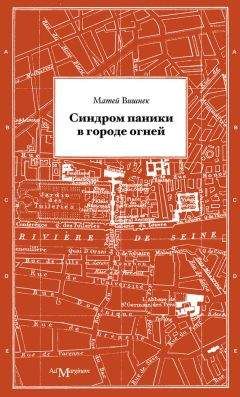Но разве другие члены нашей группы имели более четкое представление о том, что с нами творят? Мы не затрагивали эту тему ни с мадемуазель Фавиолой, ни с Пантелисом, ни с горбатым кельнером, ни с Ярославой, ни с Франсуа и Жоржем. В верхнем салоне по-прежнему появлялись незнакомые персонажи, мужчины и женщины, у которых были какие-то дела с мсье Камбреленгом. Некоторые приходили регулярно, другие — только время от времени, кто-то, после единственного визита, больше не появлялся. Соответственно мсье Камбреленг имел ежедневно по два-три рандеву, собирал рукописи, которые читал день и ночь, функционировал практически двадцать четыре часа в сутки. При этом никто не знал о нем никаких подробностей — где он жил, например. Любопытно, однако, что, несмотря на бессонные ночи, когда он брал нас на долгие прогулки, пешие или автомобильные, по Парижу, мсье Камбреленг не подавал признаков усталости: каждое утро он появлялся свежевыбритый, в свежей крахмальной рубашке, в начищенных ботинках и с колоссальной охотой к переходу новых границ.
— Жизнь в Париже у Ярославы была нелегкая, — сообщил нам мсье Камбреленг. — А скоро будет дата — сорок лет ее пребывания в этом городе. Нужно что-нибудь для нее придумать. Что-нибудь эдакое.
Никто из нас не читал роман «Сапоги», написанный Ярославой через три-четыре года после переезда в Париж в 1968-м. Те первые годы были для Ярославы самыми светлыми. К чехам, бежавшим от советского вторжения, относились с чрезвычайной симпатией. Ярослава без волокиты получила политическое убежище и стипендию для продолжения начатой в Праге учебы. Три года Ярослава прожила в прекрасном месте, в Международном университетском городке на юге Парижа, в одном из самых красивых корпусов комплекса, выдержанном в англо-саксонском стиле. С из ряда вон выходящей энергией Ярослава нырнула во французский язык и попыталась лавировать между склонениями и спряжениями, тонкостями сослагательного наклонения и устойчивых выражений (которые труднее всего запомнить и употребить в конкретных ситуациях). В романе «Сапоги» Ярославе удалось совершить чудо, которое мсье Камбреленг трактовал как наивность по неведению.
Ярослава фактически написала роман с бесшабашностью человека, который только-только начал учить язык, и это сказалось на стиле, объяснял нам мсье Камбреленг.
— Представьте себе, — говорил нам мсье Камбреленг, — что вы смотрите фильм про того, кто не умеет плавать, кто как раз учится плавать. Фильм схватывает все волнение новичка, когда он в первый раз бросается в бассейн, неловкость его первых движений и отчаянные попытки удержаться на плаву. Короче, фильм будет отличать абсолютная подлинность инициатического события. А уже научившись плавать, тот же самый человек никоим образом не сможет стать убедительным героем нового фильма о том, как учатся плавать.
В общем, как мы поняли (я во всяком случае), с Ярославой произошло именно это. Она писала роман в то время, как учила французский, и впечатления от нового языка прорывались в слоге, в стиле — все было свежо, хрупко, трепетно. Одно крупное издательство схватилось за ее рукопись и опубликовало роман под знаком именно этой раритетности, под знаком уникальности такой формы. Роман политический и поэтический, о советском вторжении в Чехословакию, но в то же время и роман чрезвычайной тонкости — картина усвоения нового языка.
Так вот, когда Ярослава написала второй роман, третий, четвертый, таинство усвоения французского языка улетучилось. Первоначальные свежесть и трепет исчезли. Она выдавала теперь правильные книги, как человек, который достаточно усвоил язык, чтобы писать приемлемо, но в ее книгах была утрачена колоритность начала, утрачен, по сути дела, гений. Так что больше никто не печатал книги Ярославы, их считали наивными в плохом смысле слова, в то время как первую ее книгу сочли наивной в хорошем смысле слова.
Ярослава так и не пришла в себя от шока. Она так и не смогла понять, почему ее первый роман, молниеносно переведенный на тридцать языков, не смог создать платформу для последующих ее книг. Чтобы на что-то жить, когда гонорары за роман иссякли, Ярослава занялась беби-ситтингом. В квартале Отей, где она купила себе маленькую студию, было достаточно богатых семейств, которые нуждались в нянях для детей. Конечно, Ярославе все время тыкали в глаза, что она говорит по-французски с выраженным чешским акцентом, так что ее не допускали к работе в яслях. Зато она могла забирать одного-двух детей домой из школы и сидеть с ними, пока родители не приходили со службы. Она могла также по вечерам и даже ночью оставаться с грудными детьми, отпуская родителей в театр, в ресторан или на разные светские приемы. В беби-ситтинге Ярослава стала надежной персоной, и буржуа Отея рекомендовали ее друг другу. Ее единственным чудачеством были желтые шляпы, но этого ей в укор никто не ставил и никто не считал это признаком недопустимой эксцентричности.
Сорок лет пролетели, как одна минута. За это время сотни детей выросли под присмотром Ярославы. Благодаря этим выросшим детям Ярослава никогда не чувствовала одиночества. На улице с ней часто здоровались как подростки, так и совсем взрослые люди:
— Bonjour, Ярослава.
— Bonjour…
Ярослава не могла, конечно, наложить образ этих подростков или взрослых людей на их детское обличье. Но теплый обмен приветствиями хорошо на нее влиял. Это помогало ей легче переносить незаживающую рану, источник которой она не понимала — как и степень ее тяжести.
Из эротического дневника мадемуазель ФавиолыСлова, которые ложатся с кем попало, иначе как потаскухами не назовешь. Да, они потаскухи, потаскухи — эти слова, которые ложатся на белую страницу ради денег, они потаскухи — эти слова, которые ждут, чтобы их купили за деньги, чтобы потом лечь с читателем, с его глазами, с его языком, с его самыми потаенными страстями.
Вы меня слышите? Я с вами говорю, слова-паршивицы, слова, без спроса лезущие из моего мозга, слова, хохочущие надо всем, что есть во мне самого сокровенного. Посмотрите на себя: вы переходите изо рта в рот, как потаскухи переходят из постели в постель. Не существует верных и преданных слов, разве что те, которые придумали люди, не выносящие склонность слов к предательству. Для вас нет ничего святого и даже на верность друг другу вы не способны.
Я долгое время думала, что иногда вы все-таки образуете хоть сколько-то прочные пары. Слово «жизнь», к примеру… Я долгое время думала, что оно тесно и нераздельно связано со словом «смерть». Но нет, любовь между ними — пустой звук. Вместо того чтобы держаться вместе, как того хотел бы наш разум, жизнь и смерть ненавидят друг друга, плюются на улице, как два вора, которые не знают, как им разделить украденную сообща крупную банкноту.
Да, я считала, что и между другими словами есть прочные отношения, близость, способная облегчить нам понимание некоторых вещей. Взять хотя бы день и ночь — на первый взгляд они живут, перетекая друг в друга в гармонии, от которой по всему миру распространяется бесконечная нежность. Но нет, взаимный интерес у них почти на нуле, как у супругов, которые всю жизнь спят в одной постели, но уже много лет не прикасаются друг к другу. Нет, не существует счастливых словесных пар, а если и есть, по видимости, они все равно говорят на разных языках. «Уродливое» и «прекрасное» соблюдают между собой ту же дистанцию, что добро и зло. Слово «да» не знает, где живет слово «нет», а слово «разум» предпочитает перейти на другую сторону улицы, завидев идущее навстречу слово «чувство».
Между словами «никогда» и «навсегда» отношения вообще извращенные. Каждый день они обмениваются письмами, назначают свидания и расписывают на бумаге такие свои прихоти, которые я просто не могу здесь воспроизвести. Они сулят друг другу эротические изыски, от которых и меня пробирает дрожь, но им не случается перейти к делу.
Интересно, что люди, когда говорят, даже не подозревают о том, что слова способны на любовь и ненависть, не знают, какие драмы переживают слова, вынужденные на долю секунды войти в одну и ту же фразу. Слово «правда», например, будучи произнесено, влюбляется по уши во все другие слова, произнесенные до и после него, а те на самом деле выжимают его как лимон, прежде чем выкинуть на помойку.
Каждый день слово «желание» спускается со своей мансарды (это единственное слово, имеющее жилище близко к небу) и отправляется в обход по всем домам терпимости словаря. Ему нелегко ходить по улице, нащупывая дорогу белой тростью (слово «желание», да будет вам известно, незрячее от рождения). На него часто натыкаются другие слова, у которых потеряно чувство ориентации, как, например, слово «надежда» или даже слово «уверенность». Но оно сохраняет вежливость и достоинство: слово «желание» вы можете представить себе как высокого благовидного господина, безукоризненно одетого и меланхоличного, худощавого и с некоторой робостью в манерах. Хоть оно и слепо, но тем не менее отличается недюжинной мужественностью, отчего даже самые целомудренные слова принимают его в своей постели.