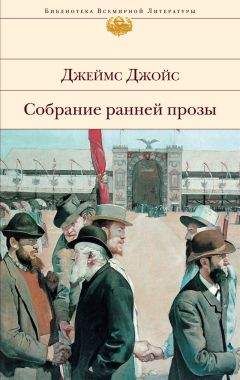— Вы тут давно с Крэнли?
— Недавно, — ответил Стивен.
Мэдден принялся набивать трубку крупным и грубым табаком:
— Знаешь что, Стиви?
— Что?
— Хьюз… он тебя не любит… напрочь. Я слышал, как он про тебя говорил одному.
— «Одному» — это туманно.
— Словом, напрочь не любит.
— Его энтузиазм заносит его, — сказал Стивен.
В субботний вечер, в канун Вербного Воскресенья, Стивен и Крэнли оказались одни вдвоем. Они стояли на лестнице Библиотеки, облокотившись на мраморную балюстраду, и бездельно смотрели на входящих и выходящих. Большие окна перед ними были [открыты] распахнуты, и [через] в них задувал теплый ветерок.
— Ты любишь службы Страстной Седмицы? — спросил Стивен.
— Да, — отвечал Крэнли.
— Они чудесны, — проговорил Стивен. — Во время Tenebrae[33] — это же безумно по-детски, когда нас пугают, стуча молитвенниками по скамейке. И разве не странно смотреть на Мессу Преждеосвященных Даров — никаких свечей, никаких облачений, голый алтарь, двери дарохранительницы настежь и священники лежат ниц на ступенях алтаря?
— Да, — сказал Крэнли.
— И тебе не кажется, что псаломщик, который открывает службу, — какая-то странная фигура. Никому неведомо, откуда он возникает: у него никакой связи со службой. Приходит сам по себе, становится справа от алтаря, раскрывает книгу, а когда прочтет текст, закроет книгу и удаляется как пришел. Разве не странно?
— Да, — сказал Крэнли.
— А знаешь, как начинается его чтение? Dixit enim Dominus[34]: in tribulatione sua consurgent ad me: venite et revertamur ad Dominum[35] —
Он проскандировал речитативом, mezza voce, начало чтения, и голос его поплыл вниз, над лестницей, по круглому залу вестибюля, и каждый звук возвращался обратно, звуча для уха богаче и мягче.
— Он взывает, — проговорил Стивен. — Он — это тот, кем этот мелолицый деятель был для меня, «адвокат дьявола». В Страстную Пятницу Иисус не имел друга. Ты знаешь, какая фигура встает у меня перед глазами в Страстную Пятницу?
— Какая?
— Маленький уродливый человечек, что принял в тело свое грехи мира[36]: Нечто между Сократом и гностическим Христом — Христос Темных Веков. Это то, что его искупительная миссия уготовала ему: скрюченное, уродливое тело, к которому не будет жалости ни у Бога, ни у человека. У Иисуса странные отношения с этим его отцом. Отец его, мне кажется, имеет нечто от сноба. Ты заметил, что он никогда не замечает своего сына на публике, кроме единственного раза — когда Иисус в парадном мундире на вершине Фавора?
— Я не очень люблю Великий Четверг, — сказал Крэнли.
— Я тоже. Слишком много мамаш с дочками осаждают исповедальню. Слишком пахнет цветами, жар от свечей, женщины. И потом, молящиеся девицы, это меня сбивает.
— А ты любишь Великую Субботу?
— Люблю, хотя служба начинается очень рано.
— И я люблю.
— Да, это как будто Церковь все обдумала, рассмотрела и говорит: «В конечном счете, видите, наступило утро, и он был не так уж мертв, как мы думали». Труп превратился в пасхальную свечу, в которой пять зернышек ладана, взамен его пяти ран. Три верные Марии, которые в пятницу думали, что все кончено, тоже каждая со свечой. Колокольный звон, и всю службу сплошные аллилуйи, не относящиеся к делу. Довольно техническое, в общем, мероприятие, благословляют то, се, пятое, десятое, но все так радостно, торжественно.
— Но ты же не думаешь, что все это набитое дурачье чего-то там видит в этих службах?
— А разве не видит? — спросил Стивен.
— Ну уж! — сказал Крэнли.
Пока они разговаривали, по лестнице поднялся один из друзей Крэнли. То был юноша, служивший днем клерком на пивоварне Гиннесса, а вечерами занимавшийся в колледже на вечернем отделении философии и морали. Склонил его к занятиям, разумеется, Крэнли. Молодой человек, фамилия которого была Глинн, не мог держать голову неподвижно, страдая наследственной нервозностью, и руки у него начинали сильно дрожать, как только он пытался что-то делать ими. Он говорил с нервной нерешительностью и, казалось, убеждал себя только методическим притопываньем ноги. Он был низкоросл, с негритянским лицом и черной курчавой головой негра. Обычно он ходил с зонтиком, а разговор его представлял собой, в основном, переложение прописных истин в многосложные фразы. Такую манеру он выработал у себя отчасти оттого, что она избавляла его от неудобств мозговой работы с нормальной скоростью, а также, возможно, и оттого, что он видел в этом наилучший путь выражения для своего своеобразного чувства юмора.
— А вот и профессор Зверски-Здоровый-Зонтик Глинн, — сказал Крэнли.
— Добрый вечер, джентльмены, — сказал Глинн, кланяясь.
— Добрый… вечер, — произнес Крэнли отсутствующе. — Да-да… вечер нынче хороший.
— Я вижу, — сказал Глинн, укоряюще грозя дрожащим указательным пальцем, — я вижу, вы собрались говорить самоочевидные вещи.
В Среду Предателя[37] Крэнли и Стивен были на службе Tenebrae в соборе. Они обошли алтарь и стали на колени позади семинаристов из Клонлиффа, которые пели службу. Стивен оказался прямо напротив Уэллса и сразу заметил, как надетый стихарь разительно изменил весь облик юноши. Стивену не понравилась служба, которую пробубнили слишком быстро. Он сказал Крэнли, что придел с отполированными скамьями и лампочками накаливания напоминает ему страховую контору. По предложению Крэнли, они решили в Страстную Пятницу пойти на службу в церковь кармелиток на Уайтфрайрс-стрит, где, по его словам, служили гораздо теплее. Крэнли проводил Стивена домой часть пути, расписывая ему с великими подробностями и с подмогой своих больших рук все достоинства бекона из Уиклоу.
— Нет, ты не иудей, — сказал Стивен, — ты, я вижу, поедаешь нечистое животное.
Крэнли возразил, что абсурдно считать нечистой свинью за то, что она жрет грязные отбросы, и в то же время считать деликатесом устрицу, которая кормится в основном испражнениями. По его мнению, свинью злостно оклеветали: он заявил, что на свиньях можно заработать кучу денег. Тезис он иллюстрировал всеми немцами, которые составили себе в Дублине скромные состояния, открыв колбасные лавочки.
— Я всерьез подумывал, и не раз, — сказал он, останавливаясь, дабы придать вес замечанию, — открыть колбасную лавку, понимаешь… повесить над дверью вывеску «Кранлиберг»[38] или там какую-нибудь немецкую фамилию… да и зашибить, понимаешь, капитал на свинине.
— Господи помилуй! — произнес Стивен. — Что за жуткая идея!
— Ага, — молвил Крэнли, грузно двинувшись дальше, — зашибил бы, как пить дать.
В Страстную Пятницу, бесцельно бродя по городу, Стивен увидал на стене плакат, возвещавший, что в иезуитской церкви на Гардинер-стрит его высокопреподобие У. Диллон, О. И., и его высокопреподобие Дж. Кэмпбелл, О. И., имеют проповедовать на тему о Трех Часах Страстей Иисусовых. Меряя шагами одну безлюдную улицу за другой, Стивен ощущал острую неприкаянность и одиночество, и, сам ясно не осознавая этого, он начал двигаться в направлении Гардинер-стрит. Был теплый пасмурный день, и город выглядел, словно пораженный божественным оцепенением. Проходя мимо церкви Святого Георгия, Стивен увидел что уже полтретьего — он бродил по городу целых три часа. Он вошел в церковь на Гардинер-стрит и, пройдя, не воздавши, мимо столика брата-мирянина, очнувшегося из осоловелой дремы в ожидании лепты, достиг правого крыла церкви. От алтаря до самых входных дверей церковь была запружена хорошо одетой толпой. Всюду он замечал то же польщенное обожание иезуитов, которые без труда заполучают в приверженцы своего ордена тысячи душ ненадежно респектабельного среднего класса, даруя им рафинированное убежище, участливого и тактичного исповедника, а также и особую приятность манер, каковой их духовные похождения никак не давали оснований ждать от них. Неподалеку от себя, под укрытием одной из колонн, Стивен увидел своего отца и его двух друзей. Отец направлял монокль на хор, расположенный в отдалении, и на лице его было выражение растроганной набожности. Хор исполнял какой-то обильно расцвеченный мотив, долженствующий выражать скорбь. Ходьба, давка, жар, полумрак церкви лишили Стивена сил, и, прислонясь к перекладине дверей, он прикрыл глаза и отпустил мысли в вольное плавание. В голове начали складываться рифмы.
Он смутно различал, что на кафедру поднялась белая фигура, и он услышал голос, произносящий Consummatum est[39]. Он узнал голос, и он понимал, что это патер Диллон читает проповедь о Седьмом Слове. Он не делал усилий слышать проповедь, но через каждые несколько минут он слышал раздающийся над собранием новый перевод Слова. «Совершилось», «Окончилось». Этот звук пробудил Стивена от грез, и пока переводы следовали [друг] один за другим с нарастающей быстротой, он обнаружил, что в нем встрепенулся инстинкт игрока. Он бился об заклад сам с собой, каким будет очередное слово проповедника. «…Окончилось», «…Завершилось», «…Исполнилось». За несколько секунд, разделявших первую и вторую части фразы, ум Стивена побивал рекорды скоростного угадыванья: «…Сбылось», «…Состоялось», «…Заключилось». Наконец, на финальном взлете риторики, отец Диллон вскричал, что все окончено, и собрание начало растекаться по улицам. Влекомый толпой, Стивен повсюду вокруг себя слышал одинаковые шепоты восхищения и видел одинаковые мины удовлетворения, шепоты приглушенные, мины сдерживаемые. Избранные подопечные иезуитов поздравляли самих себя и друг друга с хорошо проведенной Великой Пятницей.