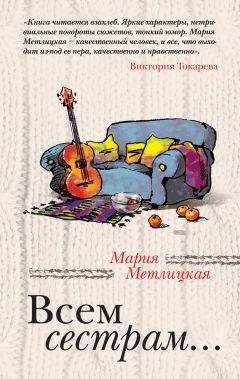Ознакомительная версия.
Оксана захотела няньку и машину. Павлик оплатил няньку и купил Оксане машину. В доме его раздражал вечный бедлам. Он просил Оксану навести порядок, Оксана отвечала, что ей нужна домработница и вообще, с ребенком трудно держать квартиру в порядке. Из Харькова приехала погостить Оксанина мама. Теперь перед глазами мелькали теща, няня и сама Оксана. Ребенок кричал, Оксана лупила его по попе, и ребенок кричал еще громче – в общем, филиал сумасшедшего дома.
Однажды в субботу Павлик заехал к Лене. Лена сварила ему манную кашу и положила туда свежую клубнику, потом налила кружку клюквенного киселя. Павлик в блаженстве откинулся в кресле: наконец у него не ныл желудок после еды. Он читал газету и смотрел телевизор. Дочка показала ему дневник, полный пятерок. В доме было чисто и тихо. Павлик прилег на диван и уснул. Лена накрыла его пушистым пледом и выключила свет.
Ночью он проснулся, сходил на кухню попить и вернулся в спальню. Жена тактично отодвинулась на край кровати. Павлик положил руку ей на плечо, и Лена тихо расплакалась.
Утром Лена поджарила сырники и сварила какао. Павлик с удовольствием позавтракал, а в дверях чмокнул Лену в щеку.
Она опять ничего не спросила.
Павлик приехал к Оксане. По дороге купил цветы и игрушку для ребенка.
Оксана открыла дверь и посмотрела на Павлика долгим изучающим взглядом. Он увидел синяки под глазами у Оксаны, но Оксана тоже не задавала вопросов.
В конце концов, дурой она не была точно. Всю следующую ночь они не спали. Оксана доказывала Павлику, что лучше ее на свете женщины нет, не согласиться с этим было трудно. Под утро Павлик, выжатый и обессиленный, уснул. Оксана лежала у него на груди, перебирала его волосы на голове и тихо пела колыбельную. Павлик был абсолютно счастлив.
– Любимая моя, – прошептал он и, между прочим, не покривил душой.
В конце недели в пятницу позвонила Лена и сказала, что надо ехать в магазин и выбирать плитку для загородного дома.
Они поехали в магазин, долго и тщательно выбирали плитку, а заодно – унитаз и раковину, обои в спальню дочери, паркет в гостиную, посудомойку на кухню. Потом приехали домой, ужинали, пили чай и смотрели телевизор.
Павлик опять остался у Лены. Лена по-прежнему молчала.
Утром Павлик позавтракал и поехал к Оксане. Она его встретила, налила ванну, бросила туда перламутровые шарики с пеной. Принесла махровый халат. Продемонстрировала, как сын научился делать «ладушки». Постелила в спальне новое шелковое белье – прохладное на ощупь, черное в синих цветах. Шептала ему в ухо такие слова, что у Павлика обрывалось сердце и летело в пропасть. Пела колыбельную. Под утро заснули, крепко переплетя ноги и скинув одеяло.
Так и повелось. На неделе Павлик жил у Оксаны, а в субботу уезжал к Лене, достраивал загородный дом. Купил две новые шубы, одну – Лене, вторую – Оксане. Летом отправил Лену с дочкой на Кипр, а Оксану с сыном – в Турцию.
Лена молчала – боялась Павлика спугнуть. В конце концов, в семье был достаток, у дочки – отец, а у нее – какой-никакой муж, пускай и наполовину.
Оксана тоже молчала, боялась, что Павлик уйдет. Он ведь ей ни в чем не отказывал – квартира в Москве, у ребенка няня, новая шуба и новая машина, отдых на море за границей. Потерять это все и вернуться в Харьков, в комнату тринадцать метров к папе и маме? Пойти работать официанткой, бегать с подносом? Ну уж нет. И она молчала, знала, в чем ее сила. Хотя это держит мужчину до поры до времени, пока есть молодость и красота. А они, как известно, – продукт скоропортящийся.
Ну а Павлика вообще все устраивало. Дети были при отце. Обе семьи ни в чем не нуждались, грех жаловаться. Дома у Лены он отогревался и наслаждался тишиной и покоем, а с Оксаной горел в огне страсти, что тоже было счастьем и откровением. В общем, обиженных вроде не было.
Только обе боялись одного: как бы в жизни Павлика не появилась третья женщина, которая бы навела порядок и расставила все точки над «i».
Ведь сами понимаете, мужик сорока лет, да еще с деньгами… Лакомый кусок. Дураку понятно.
У меня был замечательный отец, лучший отец на свете. Все мне завидовали. Еще бы! Он был высок, широкоплеч и бесконечно красив.
Он был щедр и великодушен. Конечно, он был смел и справедлив. Умен и блестяще образован. Словом, он был прекрасен. О таком отце можно было только мечтать. Он был остроумен с моими подругами и приветлив с моими кавалерами. Он никогда не ругал меня – ни за ложь, ни за двойки, просто спокойно объяснял, что к чему.
Ему нравились мои джинсы с бахромой и волосы, крашенные в ярко-рыжий, почти красный цвет. Он с удовольствием слушал музыку, которую совсем не понимали взрослые и которую слушали мы, молодежь.
Летом он отпустил меня с компанией в Коктебель. Он безгранично доверял мне – впрочем, это он делал зря.
Когда он узнал, что я курю, стал приносить мне американские сигареты, доставал их по черт-те какой цене у спекулянтов. На день рождения купил за валюту зеленый том Булгакова. Утешал меня, когда я провалилась в институт, – и повел обедать в «Арагви». Словом, понятно: у меня был лучший отец на свете.
У меня никогда не было отца. Нет, конечно, он был, но я его совсем не помнила. Мать ушла от него, когда мне было полтора года. Ушла из-за такой любви, когда уходят, не оглядываясь.
Отчим был неплохим человеком – и я, естественно, не знала правды, считала, что он мой отец. В одиннадцать лет дальняя родственница (мерзкое, надо сказать, создание) перебила мое щебетание, где фигурировало слово «папа», и спросила:
– Какой?
– Что «какой»? – не поняла я.
– Ну, какой из отцов, у тебя же их два, – пояснила она.
Я сказала ей, что она дура, и почему-то расплакалась.
Через неделю рассказала обо все маме. Она посоветовала не обращать внимания на сволочей и посчитала, что этого объяснения вполне достаточно.
В пятнадцать лет я нарыла какие-то документы вроде свидетельства о браке и моей метрики и поняла, что та сволочь была права.
Состоялся трудный разговор с мамой. Отчима, кстати, я продолжала называть папой и вообще относилась к нему неплохо, так же, как и он ко мне.
В двадцать лет я разыскала отца через Мосгорсправку. Позвонила, представилась. Он сказал, что очень занят и перезвонит мне завтра. Назавтра он не перезвонил. Он вообще мне не перезвонил, никогда.
Когда мне было лет сорок и я уже была почтенная мать двоих детей, от знакомых (такие всегда находятся) я узнала, что отец тяжело болен.
Я набрала его телефонный номер.
Он сильно кашлял, и было понятно, что говорить ему тяжело.
Я сказала, что сейчас приеду.
Он ответил: не надо, он не хочет, чтобы я видела его в таком виде, и вообще ему тяжело общаться с людьми. Я заплакала и положила трубку.
Он перезвонил вечером. Просил прощения, говорил, что так и не смог простить мою мать. Что она испортила ему всю жизнь, что после нее он не смог жить ни с одной женщиной.
– А при чем тут я? – удивилась я.
– Знаешь, все это я почему-то перевел и на тебя.
Потом он спросил, как я живу. Я ответила, что не без осадков, но в целом все нормально. Потом он спросил, как зовут его внуков. Я опять спросила, можно ли его навестить. Он объяснил, что завтра ложится в больницу, а там посмотрим.
Он умер в больнице через три дня. Я его не хоронила – свалилась с сезонным гриппом.
В общем, я его простила. Почти. Как можно простить человека, который отнимает у тебя последний шанс.
Да и вообще, великодушие не является, видимо, нашей наследственной чертой. Надо в этом признаться.
Считалось, что Марго крупно повезло, просто вытащила счастливый билет. Пока ее старшие сестры нервно делили перину и две подушки, любовно набитые старенькой бабушкой нежнейшим утиным пухом, младшая, Марго, уже примеряла свадебное платье. Да и партия не из последних, студент последнего курса Академии Внешторга, а это значило – человек с большими перспективами.
Свадьбу играли в квартире Марго, жених был из приезжих. Две старших сестры Марго злобно шипели, утверждая, что жениху нужна исключительно московская прописка. Но это была неправда, жениху очень нравилась невеста.
На краю Москвы, в Гольянове, где еще стояли частные дома, в старом, но еще довольно крепком доме, доставшемся от деда-портного, три дня активно жарили, парили и пекли. Замученная хлопотами мать Марго бегала из погреба на кухню и обратно и вытирала слезы безутешным и завистливым старшим дочерям, которые до того уверенно считали, что последышу, самой некрасивой из трех сестер, уготована участь старой девы.
Творец и вправду был, скорее всего, не в духе, когда на свет появилась маленькая Марго. Девочка была нехороша – не по возрасту крупна, с большими кистями рук и разлапистыми, широкими ступнями, выдающимся носом и толстыми яркими губами. Хороши были только глаза – темные, любопытные, живые.
Ознакомительная версия.