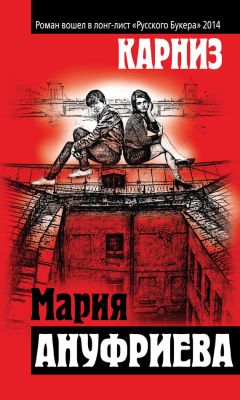Несколько лет убегала Мытарка с Коломны на петроградские острова. А одним годом на третий раз пропала окончательно, то есть не вернулась домой в свой подвал на Мастерскую улицу ни на вторую, ни на пятую неделю. Вокруг этого события среди коломенского опущенного народца начались страсти и пересуды. «В любовном грехе испарилась двигалка наша. Теперь мы с тобой, Мавка, сироты беспризорные, сгинула наша артелька», — прохрипела Царь Иванна своей побегушке и зацарила так, что впала в горячку и оказалась в больнице, где начала отпевать всех лежащих без разбору.
У Мавки Меченой от расстройств и переживаний прямо в ограде Никольского сада перед храмом, на виду у всех, случилась «бесова трясучка», и она вдруг зарычала, закричала, закликала разными птицами и зверьми. Пришлось звать самого соборного батюшку изгонять беса.
Говоря словами Царь Иванны, многие мерзостные «эфиопские образины» были довольны порушением Мытаркиного дела. Но всех разбирало любопытство — что же всё-таки произошло с нею в Ботаническом саду? Обитатели паперти на очередной складчине, приняв на грудь хорошее количество «огненной жидкости», постановили отправить на Аптекарский остров, в гермафродитов сад, разведчиц с заданием добыть сведения у аптекарских людишек об их товарке — Мытарке Коломенской.
Вернувшиеся с островов Петроградской стороны разведчицы ничего, кроме слухов, не принесли. По одним рассказам, правда, от самого главного ботанического сторожа, гермафродит их, по прозвищу Гальваник, был натуральным скобарем и, дослужив в саду до пенсии, недели три назад уехал на свою псковскую родину. А с кем — не могу знать. Если кого-то взял, то слава богу — стариковать ему веселее станет. А отчего Гальваником звали, так он сам виноват — всем рассказывал, как по нечайности ложку белого металла проглотил, а назад из себя получил ложку металла жёлтого. Обозван был правильно, у нас на Аптекарском проспекте с царских времен Электротехнический институт стоит — все грамотные.
Соседи из дома напротив, что на проспекте, советовали искать останки Мытарки в кущах Ботанического сада, где ревнивый гермафродит мог задушить её, не желая отпускать в Коломну. И после сбежал с наших островов к своим бандитским скобарям.
Царь Иванна, выйдя из больницы и получив пенсию, с похоронным ремеслом завязала. Увидеть её можно было либо в агитационном пункте на улице Союза Печатников, где сидела она перед великим изобретением двадцатого века, телевизором «КВН» на своем стуле-троне в первом ряду, немного слева, у самого увеличительного стекла, либо по воскресеньям и по всем церковным праздникам на паперти Морского Богоявленского Никольского собора.
Если услышите нищенское обращение к прихожанам, произносимое пропитым хриплым басом: «Будьте, отцы, милостивы, сотворите святую милостыньку, благословите на копеечку», — то это она, Царь Иванна.
Мавка Меченая попала не то в психбольницу, не то в «казенный дом» за бродяжничество и шум, испускаемый изнутри себя.
А в кущах Ботанического сада, что находится на Аптекарском острове Петроградской стороны, до сих пор ищут Мытарку Коломенскую, но там её нет.
В начале 1960-х годов в Театре драмы и комедии на Литейном я оформлял спектакль по пьесе Алексея Максимовича Горького «Последние» — дипломную работу ныне известного московского режиссера Камы Гинкаса.
Чтобы рассказать историю старинного дворянского рода, последний представитель которого Иван Коломийцев деградировал до службы в полиции, мы решили собрать на сцене мебель разных поколений за сто лет русского дворянства и через обстановку дома показать историю семьи. Контрастом подлинной мебели был фон — огромное распростертое стёганое одеяло буро-красного цвета, прожившее в этой семье много лет, — своеобразная физиология рода. Эта затея совпала с фантастическим периодом в истории нашего города, когда после борьбы с излишествами в архитектуре начался быстрый «пошив» хрущоб[13] и масса семей из старых питерских коммуналок переезжала в отдельные квартиры блочных домов.
Естественно, что старинная, уважительная к человеку мебель никак не помещалась ни вдоль, ни поперек в новых жилищах, не говоря уже о высоте, так как, по шутке того времени, строились эти дома со сверхзадачей — соединить потолок с полом.
В городе началась повсеместная распродажа «негабаритной» мебели, и появилась возможность приобрести настоящие антикварные вещи по бросовым ценам, как раз подходящим для театра. Эти обстоятельства, а также бурная модернизация послесталинской жизни вызвали своеобразную моду на новую мебель, а старую — всяких там «Павлов» или «Александров» — можно было купить за десятку или даже найти в подворотнях питерских домов, на помойках.
Я не шучу — книжный шкафчик красного дерева с латунной отделкой («жакоб» местного производства) торговали за десять-пятнадцать рублей. Роскошное «павловское» кресло карельской березы стоило намного дешевле «вшивого» современного стула. Сейчас в это чудо трудно поверить, но так было в то сумасшедшее время. А как его по-другому назвать, если театру венские стулья дарили, огромные дубовые буфеты и горки с резьбой и точёными деталями 70-80-х годов XIX века умоляли забрать бесплатно — только бы вывезли на казенной машине.
В театр приносили бронзовые золочёные подсвечники по пять рублей за штуку, веера — по два, старинные зонтики — по три рубля. Для спектакля мы купили шапокляк[14] замечательной сохранности, с парижским клеймом — за пятёрку, золочёное пенсне в кожаном футляре — за рубль, старинные колоды карт — по два рубля за колоду.
Когда театр давал объявление по радио, то бедные пожарные, сидевшие сутками у телефона, лишались отдыха — им постоянно приходилось записывать координаты огромного количества старушек, реже — стариков, жаждущих продать что-либо театру. Телефон не умолкал по нескольку дней — звонили со всего Питера и предлагали, предлагали…
После объявления о покупке мебели для «Последних» мне, художнику, выдали довольно толстый гроссбух с этими адресами. Ознакомившись с ним, я понял, что никогда в жизни не смогу обойти такое количество жаждущих.
Путешествие только по десяти адресам заняло более месяца, правда, сопровождалось оно для меня множеством интересных открытий. Я слышал рассказы, которые казались в ту пору неправдоподобными. Видел потрясающе редкие вещи.
Через малое время я научился различать, досталась ли мебель человеку по наследству или попала к нему случайно, в связи с коллизиями истории Государства Российского. В одном из домов на Моховой улице, в довольно добротной квартире, я обнаружил нескольких «булей» — мебель чёрного дерева с инкрустациями из золочёной бронзы и черепахи, французской работы XVIII века. Владельцы по своему виду совершенно не соответствовали такой мебели, но понимали, что она чего-то стоит. Мой неосторожный вопрос — как эта мебель к ним попала? — жутко испугал их, и они сделали всё, чтобы я оказался с другой стороны входных дверей, и более из театра никого не пускали.
Было много сюжетов, но один из них запал в памяти на всю жизнь, поскольку рифмовался с названием нашей пьесы «Последние» и отчасти — с моей декорационной идеей.
Сам я родился на Городском острове Петроградской стороны и с некоторой сентиментальностью отдавал предпочтение адресам петроградских островов. Один из них был в районе Петровской набережной, недалеко от Военно-воздушной академии. Рукою нашего замечательного пожарного — человека дореволюционного, именуемого, между прочим, Александром Сергеевичем, — было записано: «Во дворе, рядом с Ведомством», — слово «Ведомство» выведено пером с уважением и с большой буквы.
Действительно, во дворе сталинского дома, выходившего на Петровскую набережную, стоял небольшой двухэтажный особнячок времен Николая I с единственным входом по центру. Явная заброшенность и потёртый его вид наводили на мысль, что дом приговорен к сносу.
Из сеней через дубовую филёнчатую дверь я попал в вестибюль с лестницей, напоминавшей — в миниатюре — вестибюль Михайловского дворца, только с другой биографией. В подступеньках ещё крепкой лестницы сохранились бронзовые крепления с прутками для ковровых дорожек. С лепной розетки потолка свисала бронзовая цепь, предназначенная для исчезнувшего со временем вестибюльного фонаря.
Особняк был поделен на четыре квартиры. Две — внизу, по обе стороны лестницы, две — наверху. В записи пожарного Александра Сергеевича значилось: «Второй этаж, дверь слева от лестницы» — и еще: «Просьба приехать в 19.00, не ранее. Спросить Анну Павловну». Я постарался быть точным.