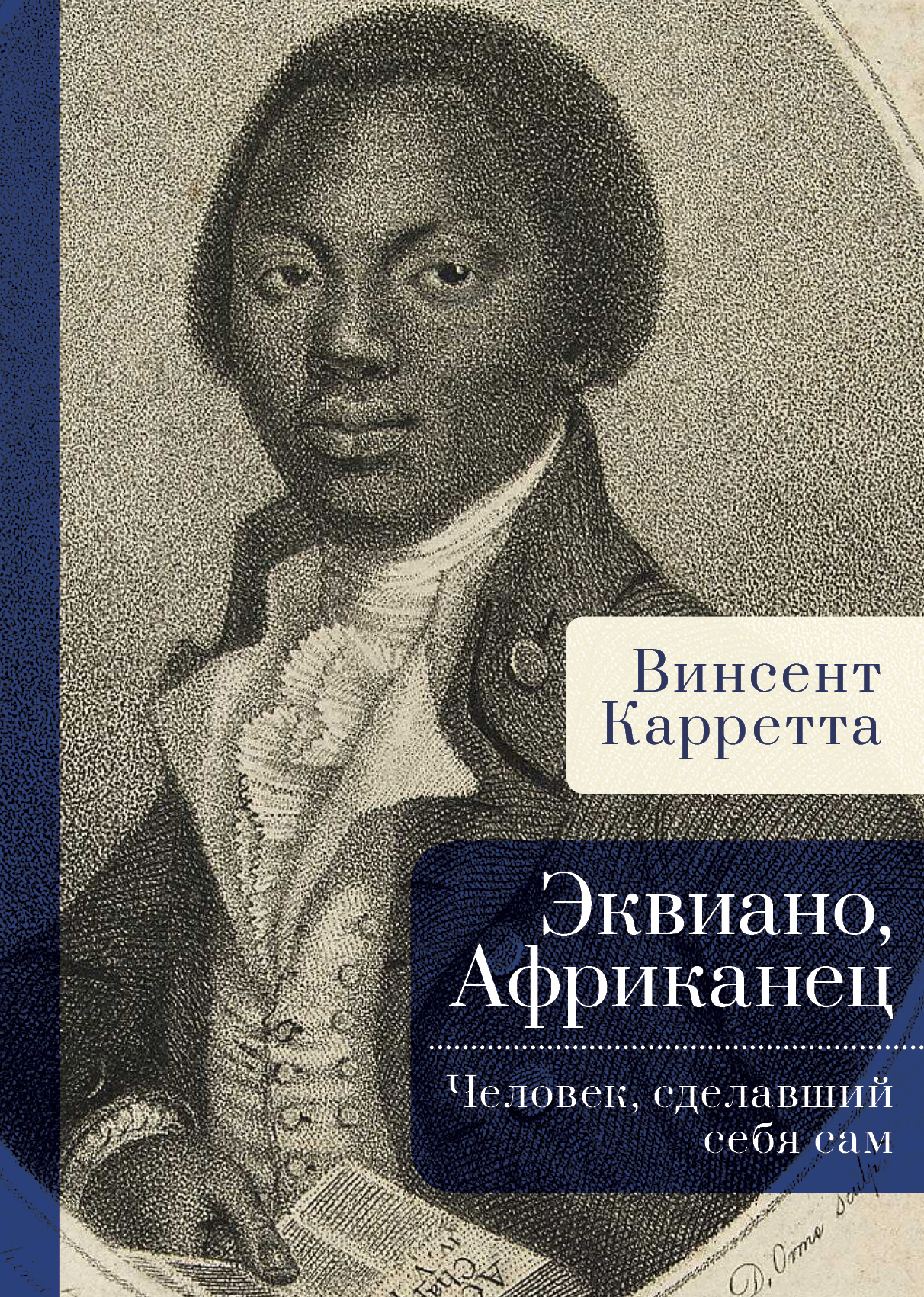– Спасибо, – говорит Майкл. – За все, что вы сделали для меня и моей семьи.
Ал пожимает плечами, смотрит на свои руки и краснеет еще сильнее.
– Это моя работа, – говорит Ал, – За которую я, кстати, получаю хорошие деньги. Это вам спасибо.
Когда Мисти и Ал уходят, я раздеваю Микаэлу и заставляю Джоджо снять рубашку, а затем кидаю все это в стиральную машину Ала, модный вертикальный агрегат, и потом я минут пять жму на кнопки и верчу рукоятки, чтобы понять, как она работает. Микаэла орет без умолку, пока сидит в ванне, взгляд ее постоянно обращается к Джоджо, и я веду себя с ней грубее, чем следовало бы, намыливая ее худенький животик, ноги, спину. Удаляю комки рвоты из ее волос. Тыкаю тряпкой ей в лицо, чтобы смыть с него всю слизь, корки и слезы, нажимая сильнее, чем следовало бы, потому что злюсь. Мама всегда носила с собой браслет, сделанный из оранжевой пряжи с маленькими оранжевыми бусинами. Каждый день она завязывала его и клала в карман юбки. Когда я или Гивен совершали что-то глупое, например, когда он впервые напился и, вернувшись домой, заблевал все растения на крыльце, или когда я случайно срывала в саду какое-то выращенное мамой растение, приняв его за сорняк, она хватала эту маленькую оранжевую безделушку и начинала молиться: Святая Тереза, – слышала я. Пресвятая Дева Канделярская, – бормотала она. И затем: Ойя. Я не знаю французского, кроме пары отдельных слов, но иногда она молилась на английском, и я разбирала: Ойя ветров, молний, бурь. Переверни умы наши. Очисти мир наш своими бурями, разрушь его и сотвори вновь ветрами своих юбок. А когда я спросила ее, что она имела в виду, она сказала: Никогда не надо наказывать в гневе. Вместо этого просто молишься о том, чтобы гнев превратился в бурю, которая вынудит правду выйти наружу.
– Святая Тереза, – бормочу я. – Ойя, – говорю и полощу Микаэлу, выливая на ее голову стакан воды.
Она воет. Я оборачиваю ее полотенцем, которое промокает снизу, становится тяжелым от воды, затем поднимаю ее и вытаскиваю из ванны. Она брыкается. Хочется ударить ее. Не заставляй меня чувствовать все это напрасно, думаю я. Дай мне немного правды. Но правда не приходит, когда я вытираю ее, не мажа ее кремом, и протискиваюсь мимо Джоджо, который протирает свою грудь у раковины с зеркалом и, я точно знаю, наблюдает, словно сойка за своим птенцом, готовая сорваться с места и клюнуть, если я обижу ее чадо. Готов сам принять на себя мои удары, если я потеряю терпение и начну лупить Микаэлу по заднице, все еще влажной от воды и температуры. Он в том возрасте, когда худые парни либо вытягиваются и становятся еще более худыми, костлявыми и крепкими, либо толстеют и проводят свои ранние подростковые годы, пытаясь научиться жить с раздавшимся из-за гормонов телом. У Джоджо получается что-то среднее: жир накапливается вдоль его живота, но обходит грудь, руки и лицо. В рубашке он все еще выглядит стройным, как когда был младше. По тому, как он моется, я вижу, что он стесняется этого, что не знает, в отличие от меня, что через несколько лет этот живот растает слой за слоем, когда он станет выше и мускулистее, и его тело превратится в машину с равномерными конечностями, как у Майкла. Высокую, как Па.
– В складках как следует промой, – говорю я.
Джоджо сжимается, словно я ударила его. Подходит ближе к зеркалу. Приятно побыть злой, направить слова мимо ребенка, которого я не могу ударить, и позволить моей злости коснуться другого. Того, для которого я вечно недостаточно хороша. Для него я не Мама. Только Леони, имя, обернутое вокруг тех же разочарованных слогов, которые я слышала от Мамы, от Па, даже от Гивена всю свою чертову жизнь. Я скидываю Микаэлу вопящим комочком на кровать и начинаю вытирать ее полотенцем, а она продолжает пинаться, кричать и стонать, и теперь говорит еще'. Джоджо, и мне хочется шлепнуть ее как следует разок, может, два – так, чтобы жгло, но не знаю, смогу ли остановиться. Святая Тереза, я не смогу остановиться, помоги мне. Оставляю ее дрожащей и иду к двери, кричу в ванную, в сторону Джоджо, который стоит, засунув руки под мышки, сложив руки, как толстые накладки для американского футбола на груди, и наблюдает за нами.
– Одень ее. И уложи поспать. Из комнаты не выходить.
Я хлопаю дверью.
Когда я выбегаю из коридора и вижу Майкла, стоящего в молочном свете, моя злость так быстро превращается в любовь, что я молча останавливаюсь. Все, что мне остается, – это смотреть, как он обходит все четыре угла комнаты, а затем пожимает плечами.
– У него нет телика, – говорит Майкл. – Дом большой, хороший, но телика нет.
Я смеюсь, и с нами в комнате вдруг словно возникает тот хулиганистый мальчишка, который разбил телевизор, когда мы сюда ехали: восторг, который он, должно быть, ощущал от своей порочности, разливается во мне, словно вода.
– У него есть кое-что получше, – говорю я.
Камин большой, лепнина по краям обуглилась, краска давно облезла, словно змеиная кожа. На каминной полке стоят три керамические чашки с крышками, вазы как минимум пяти оттенков синего. Как океан, – сказал Ал накануне. – Не как ваш океан – ну серьезно, его даже заливом не назовешь – он же цветом как стоячая вода. Я имею в виду настоящую воду.
Ямайку и Сент-Люсию, Индонезию и Кипр. Он улыбнулся, чтобы сгладить обиду, и указал на две большие урны по углам камина. Мать и Отец, – сказал он. А потом придвинул к себе маленькую урну по сажистой деревянной поверхности и обнял ее руками. – И моя Детка: моя Возлюбленная. Когда Ал достал пачку и сказал: Она здесь, чтобы потусить, Мисти взвизгнула от возбуждения. Я достаю пачку, и Майкл выглядит так, будто хочет развернуться и бежать, а потом так, будто я держу в руках его любимую еду, макароны с сыром, а он голоден. Он хватает меня за руку и тянет меня к себе, обнимает меня, тяжело дышит в волосы у моего виска, заставляя их трепетать. Пятью минутами позднее мы уже под кайфом.
Дело в наркотике, но в то же время не в нем. Он весь – глаза, руки, зубы и язык. Лоб ко лбу, голова наклонена. Он молится, слишком тихо, чтобы я услышала, и тогда я чувствую. Леони, Лони, Они, О, – говорит он, его голос то слышен, то пропадает, его пальцы здесь, а потом исчезают, а затем снова появляются, и моя кожа чешется, покалывает, жжется и печет. Я так давно этого не чувствовала. Моя грудь пуста, а потом полна; рыхлая ямка, то полая, то неожиданно стремительно заполняющаяся водой после сильного весеннего дождя. Наводнение. Слов нет. Вокруг меня, а затем сквозь меня, молчит мужчина, молящийся, тихий, молящийся и молчащий, мужчина, который больше, чем просто мужчина, мужчина с блестящей шевелюрой и ясными глазами, мужчина, который весь – огонь, огонь во рту, пламя в руках, тлеющие угли в виде буквы V в его бедрах. Огонь и вода. Очищенный потопом. Возрожденный. Благословенный. Да, вот так. Да, да.
Я писаю в холодном белом туалете Ала, прислушиваясь к детям, но ничего не слышу. Возвращаюсь в гостиную, окна которой переливаются пылью в золотистом воздухе. Что-то не так. Майкл улыбается мне, потирает шею в том месте, где я оставила засос, и говорит: “Кажется, ты мне оставила кое-что на память”. И Дарованный-не-Дарованный – сидит расслабленный в черной рубашке на другом конце дивана. Он машет рукой, чтобы я села между ними. Головокружение кольнуло меня и пропало. Я сажусь, и Майкл берет мое лицо в свои теплые настоящие руки, и его губы встречаются с моими, и я снова открываюсь ему. Теряю язык, теряю слова. Теряю себя в этом чувстве, в чувстве желанности и нужности, в необходимости быть тронутой и обнятой, все это время трепеща в восторге от того, что делает это со мной тот, кто хочет этого, нуждается в этом, касается, видит. Это чудо, думаю я, закрываю глаза и игнорирую Дарованного-не-Дарованного, сидящего с грустным лицом и слегка поджатыми губами, и думаю о Майкле, настоящем Майкле, и о том, что, если бы мы завели еще одного ребенка, он бы больше походил на него, чем Микаэла. Если бы у нас был еще один ребенок, мы могли бы все сделать правильно.