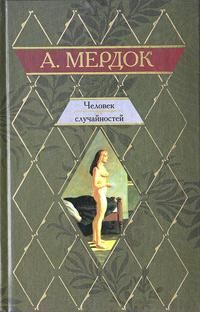А еще случился этот странный эпизод с миссис Мак-Грат. Сразу, как только Дьюкейн ушел из дома Мак-Грата, он подумал об этой истории с легким стыдом и с некоторой, как ни странно, радостью. Уже давно неожиданное не входило в жизнь Дьюкейна в таком обличье, и это казалось ему восхитительным. Чуть позже это уже меньше забавляло его. Расследование и так было неясным, запутанным, и не надо его усложнять безответственными поступками. Мак-Грат был беспринципным человеком, шантажистом и все разболтал прессе, но уж, во всяком случае, не тем, чья жена может во время секретного расследования целовать высокопоставленного чиновника. Дьюкейн не предполагал, что Мак-Грат может причинить ему неприятности, что бы ни поведала ему жена. Но просто этого не должно было произойти. На более глубоком уровне, когда прошло время, он чувствовал себя подавленным этой сценой, как будто он проглотил вместе с розовым вином какое-то снотворное, и оно до сих пор действовало на его органы чувств. Возможно, оттуда — из снотворной скуки этой цирцеиной комнаты, где ждала миссис Мак-Грат, перешла на него тоска, забиравшая силы.
Машина двигалась теперь быстрей вдоль Бромптон-роуд в направлении к дому Дьюкейна в Эрлз-Корт. Пока эти мрачные и ослабляющие мысли занимали его ум, Дьюкейн почти бессознательно болтал с Файви о погоде и о том, что опять предсказывают «волну жары». Дьюкейну казалось, что его отношения со слугой не очень продвинулись, хотя он физически привык к его присутствию в доме и легко теперь подавлял раздражение, когда Файви напевал якобитские песни или делал по телефону ставки на лошадей. Файви поделился еще небольшой долей информации о своей матери, сообщив, что она «научила его воровать в магазинах». Но когда Дьюкейн пытался навести его на дальнейшие откровения о его преступной карьере, развернувшейся позже, то его друг шотландец только загадочно бормотал: «В этом мире трудно жить, сэр». А когда Дьюкейн спросил его о фотографии женщины неопределенного возраста, которую Файви держал в своей спальне, тот просто скорбно ответил: «Все прошло, да и давно это было, сэр, все прошло, да и давно». Однако, несмотря на эти намеки на горечь бытия, Файви тоже прижился в доме, порой даже становился бойким, в глазах сверкало понимание; встречая взгляд хозяина, он почти что подмигивал, как бы говоря: да, я мошенник, но ты тоже, по-своему. Сомневаюсь, что мы так уж отличаемся друг от друга. Тебе просто больше повезло, чем мне, вот и все. Эта бессловесная дерзость даже нравилась Дьюкейну.
Когда машина повернула к Бин-гарденз, Дьюкейн следил за медленными, значительными, торжественными движениями рук, широких, испещренных веснушками, поворачивающих руль. Пока Дьюкейн наблюдал за этим, он вдруг обнаружил, что его собственная рука, до этого откинутая на спинку сиденья, каким-то образом добралась до плеча Файви. Дьюкейн на минуту задумался. И решил оставить ее там, где она находится. Он даже слегка передвинул ее так, что его пальцы, почти не соприкасаясь, но дотронулись до плеча. Этот контакт немедленно принес Дьюкейну чувство необыкновенного покоя, к которому, как ему теперь показалось, он стремился весь день. Файви бесстрастно смотрел вперед.
Три дамы выбрались в город. Пола приехала для того, чтобы купить новые книги, Кейт — чтобы нанести визиты, которые она обычно делала в середине недели, а Мэри просто убедили, что ей нужно «переменить обстановку». У Мэри была и другая цель: она хотела уговорить Пирса покинуть Дорсет, и для этого намекнула Пембер-Смитам прислать ему приглашение на обед, они собирались в Норфолк-Бродз, где их ждала готовая к отплытию яхта.
Мэри надеялась, что хвастливые речи о яхте соученика Пирса Джеффри Пембер-Смита произведут свой эффект, тем более, что Пирс уже был приглашен поехать с ними в Норфолк. И все же она опасалась, верней, была уверена — он будет считать часы, чтобы вернуться назад к своему горю — к полному равнодушию Барбары. Мэри жалела его и все больше ожесточалась против Барбары, демонстрировавшей свое наплевательство, но поделать ничего не могла. Иногда она приходила к мысли, что это бесполезное, затянувшееся страдание ее сына было следствием ошибки — что ей не надо было поселяться у Кейт. Но если бы не было Барбары, была бы другая девушка, горестей первой любви не избежать, и что вообще смешно слишком сострадать Пирсу. И все же ситуация огорчала Мэри, и она слегка боялась, что Барбара доведет Пирса до какого-нибудь отчаянного поступка.
Пирс, разумеется, не откровенничал с матерью, но она была рада узнать, что он поверял все Вилли. Вилли очень любил Пирса; разговаривая о нем с Вилли, она чувствовала успокоение, как будто Вилли уже взял на себя роль отца Пирса. С тех пор, как Дьюкейн произнес «освобождающие слова» в буковом лесу, Мэри чувствовала себя гораздо спокойнее в присутствии Вилли, отчего и ему становилось с ней легче. Они разговаривали гораздо охотнее; и хотя разговор был не таким интимным, как Мэри хотелось бы, она больше не испытала чувства роковой разделенности между ними, которое раньше парализовало ее. Ее прикосновения к нему стали более порывистыми, более игривыми и лишенными отчаянья. Она думала на языке, новом для нее: я переделаю жизнь Вилли, я переделаю ее.
Вчетвером они ехали в поезде и расстались на станции Ватерлоо. Пола поехала на Чэринг-Кросс-роуд, Кейт — в магазин «Хэрродз», Пирс — к Пембер-Смитам, а Мэри отправилась перекусить в кофейную, у нее на этот день были свои планы, о которых она никому не говорила.
Мэри сдала свой билет до Ганнерзбэри и поднялась по пандусу на улицу. Летняя меланхолия окраинного Лондона — шероховатая, легкая, тривиальная — висела над местностью, как старый знакомый запах; какие-то непредвиденные изменения сразу же произошли в ее памяти и заставляли вздрагивать на каждом шагу от узнавания. Уже много лет она не была здесь.
Она шла и узнавала каждый дом, хотя не могла до этого восстановить в памяти маршрут с абсолютной точностью. Это всплывало как бы из глубины, облагороженное тем, что все это было в прошлом, каждая вещь как бы впрыгивала в предназначенную ей за секунду до этого раму: резной воротный столб, овал витража над входной дверью, кисть клематиса над шпалерной изгородью, темно-зеленый мох на красных плитках тропинки, одиноко стоящий фонарь. Эти дома, «старые большие дома», как она их называла, остались, как ни странно, прежними. В полдневном оцепенении дорога, которую она помнила, приобрела нечто слегка угрожающее, ускользающую знакомость места, которое иногда снится во сне, и тогда спящий спрашивает себя: я здесь был, и все же — где это и что сейчас случится? И цвета были как во сне, живые, но как бы приглушенные, не отражающие света, как будто они были яркими красками, видимыми в темноте.
Мэри повернула за угол и на мгновение совсем не узнала местности. Дома исчезли. Высокие многоквартирные дома и просторные гаражи заняли их место. Машин сейчас было немного, но и прохожих не видно. Усилием воли Мэри отогнала от себя призрачную толпу былого и с неожиданным для себя страхом подумала: наверно, и наш дом просто исчез. Но когда она дошла до конца улочки, то сразу налево увидела два маленьких особняка, объединенных общей стеной, в одном из которых она прожила с Алистером целых четыре года.
Они были первыми жильцами этого дома, построенного после войны. Слабые саженцы, высаженные муниципалитетом, названия которых она тогда и не трудилась узнать, а сейчас поняла, что это — дикие сливы, теперь стали большими деревьями. Алистер был чуть-чуть моложе жены и слишком молод, чтобы воевать; когда он привез молодую жену в этот маленький домик в Ганнерзбэри, он готовился к экзамену по бухгалтерскому учету. Мэри остановилась, положив руку на низкую стену на углу улицы, зная, как если бы речь шла о постороннем человеке, что в ее руке вспыхнет внезапно память о поверхности этой стены, об этих крошащихся камнях и о городском мхе, который и на стене, и на плитах казался влажным и сырым даже в самый солнцепек.
С прикосновением руки к стене перед ней неожиданно явился и образ их старого пианино, давным-давно проданного, но как будто неразрывно связанного с этой мшистой стеной, благодаря тому, что когда-то она, задумавшись о чем-то, остановилась на этом углу. У Алистера был красивый баритон, и они часто пели вместе, он аккомпанируя на пианино, она — положив руки ему на плечи, откинув голову в музыкальном забытьи. Это было чистым, счастливым воспоминанием, она даже сейчас могла вызвать то ощущение, когда ей казалось, что она сейчас растворится в радости. Алистер умел играть и петь. Он также был довольно хорошим художником, талантливым поэтом, писателем, к тому же он прекрасно играл в шахматы, фехтовал и был замечательным теннисистом. Сейчас, вспоминая все это, она подумала, он был такой многосторонний. И пока она гладила стену, ей пришло в голову, что прежде чем выйти за него замуж, она также напоминала себе об этом, как и сейчас. Только слово «многосторонний» тогда она не употребляла, а теперь оно показалось ей грустным и малоговорящим словом.