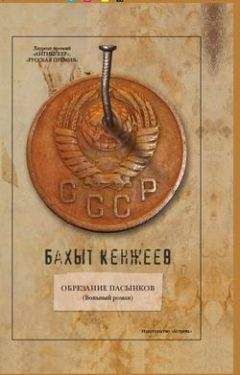ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В день экзамена (от которого, напомню, зависела вся моя жизнь) я проснулся в девятом часу, зевнул и тревожно оглядел свой продольный, похожий на гроб, закуток. С улицы доносились крики мальчишек, гонявших по пустырю полуспущенный резиновый мяч. По громыханию дальнего трамвая я угадал, что машина не из тех новых, чехословацких, что недавно появились на линии, а допотопная, тридцатых еще годов - с отполированными сиденьями из деревянных реек, со свисающими с потолка ременными петлями для стоящих пассажиров. Как громыхали на поворотах эти железные колымаги, выкрашенные в викторианский темно-красный цвет, и как худо было в них в крещенские морозы. Уже через четверть часа поездки онемевшие пальцы отказывались перелистывать книгу, а потом, уже в метро, несколько остановок подряд, отходили замерзшие ступни. Зато летом окна в них открывались на всю высоту, и вся поездка означала порывы свежего ветра, чередующиеся городские запахи - общепит, выхлопы грузовиков, далекое дыхание водохранилища, мелькавшего в просветах между тушинскими домами, и еще, разумеется, трамвай проходил сквозь туннель, проложенный под каналом "Москва-Волга", и я восторженно задерживал дыхание, зная, что покуда мы громыхаем под землею, над нами величественно проплывает огромный белый пароход, заканчивающий двухнедельный круиз по историческим местам, и медные дверные ручки поблескивают на каютах, и красивые женщины, облокотясь о поручни, улыбаются своим основательным, молчаливым кавалерам из ответственных работников и снабженцев. Магия эта была далеко не той, что на концертах в гимнасии, но и она обладала надо мной таинственною властью - и мне искренне казалось, что вот так проплыть на корабле - возможно, сжимая в руке бутылку шампанского - а потом, не торгуясь, сесть в такси, или того лучше, в ожидающую черную "Волгу", и покатить по летним улицам в одну из таких квартир, где жил, скажем, тот же Коля Некрасов - о, неужели стоило от такого отказываться ради чего-то вовсе уж бесплотного, существующего лишь в качестве крючков на бумаге, да сотрясения воздуха на неизвестном языке?
Дома никого не было. На моем унизительно маленьком письменном столе со вчерашнего вечера горой лежали учебники, конспекты, тетради. Все до единой контрабандные задачи я решил; экзамен был назначен на два часа дня. Трамвай, который я так живо представил по звуку при пробуждении, легко материализовался, и мне даже досталось место у настежь раскрытого окна . О проплывающем корабле лучше умолчим, потому что вряд ли он существует в природе - существует метро с неулыбчивыми пассажирами, букеты флоксов, которые, словно детей, прижимают к груди старухи, возвращающиеся с дачи в город показаться доктору, серая глыба Киевского вокзала, у которого надо добрых полчаса простоять в очереди на автобус, да дальний силуэт Университета, все яснее вырисовывающийся впереди, и отцветающая персидская сирень у памятника Ломоносову, и неожиданный страх при входе в аудиторию, где храбрятся разномастные мои товарищи по несчастью.
Я беспокоился: знающий о выданном помиловании, однако же для проформы все же ведомый на казнь, не может не подозревать, что все помилование - лишь коварная игра судьбы. Но Михаил Юрьевич не обманул меня - все четыре задачи на шершавом экзаменационном билете оказались из тех, что получил я от него несколько дней назад. Совесть меня не мучила совершенно. Разве не сам я решил все эти задачи? Конечно, дома было спокойнее - можно было все дважды и трижды проверить, даже поглядеть в учебники. Но экзамен - условность, твердил я себе, сугубая условность, и если я боюсь стресса больше, чем мои соперники, то имею право компенсировать этот недостаток иными способами. Через два стола от меня корпела над задачами Таня - какое лицемерие, подумал я, наверняка Серафим Дмитриевич дал ей те же самые задачи, если не сам, то через Михаила Юрьевича. Я сдал свои перенумерованные листки самым первым и, сдерживая усмешку победителя, вышел из аудитории в знакомый коридор естественного департамента. В холле стоял густой табачный дым, студенты - самоуверенные, нарочито взрослые - бросали на меня оценивающие взгляды. Ничего, размышлял я, читая стенную газету, скоро и я стану одним из вас, а может быть, и неверная Таня поймет, на кого она меня променяла.
С какой отчетливостью помню я все эти мысли, как ясно вспоминаю, как переминался я с ноги на ногу у высоких дверей аудитории. Татьяна вышла самой последней, и покрасневшие глаза ее выражали самое неподдельное отчаяние. "Я ничего не решила, - почти зарыдала она, - всего две из четырех, да и то, по-моему, неправильно". "Разве отец не...", - начал было я. "За кого ты его принимаешь?" - глаза ее мгновенно просохли. "Да и меня тоже?"
Я отошел в смущении. Через два дня на доске у приемной комиссии вывесили результаты экзамена: я, как и ожидалось, был в числе первых, а следовательно, зачислен в университет. Таня получила двойку, и Серафим Дмитриевич, которого я встретил в лаборатории, был задумчив и грустен. "Не беда, - сказал он мне, - поступит в Педагогический, а на будущий год переведется к нам. Или поработает лаборанткой. Набежит стаж, поступить будет легче. Я рад за тебя, Алексей. Я всегда знал, что у тебя золотая голова." Вошедший Михаил Юрьевич, подмигнув мне, открыл несгораемый шкаф и достал оттуда бутыль с жизненным эликсиром, а затем - три рюмочки, покрытые радужной патиной. "Профессор Галушкин присоединится," - утвердительно сказал он. Профессор Галушкин присоединился, а за ним и Матвей Иосифович, которому, правда, вместо почти археологической рюмки достался обыкновенный лабораторный стакан. Пили за молодую смену, за грядущие успехи волшебной науки, за то, чтобы утереть нос кичливому японцу - "Похоже, Алеша, что нам это удастся в самом ближайшем будущем," - вдруг сказал Михаил Юрьевич, и в голосе у него почему-то не было радости. "А я постараюсь вам помочь," отвечал я голосом несколько заплетающимся, однако восторженным. "Я же все понимаю насчет нашей (я впервые назвал ее нашей ) науки. И по-моему, - я расхрабрился, - вполне возможно исключить из ее уравнений всю эту астрологическую дребедень и все эти - как там у японца - принципиально непознаваемые факторы. В конце концов, алхимия - это наука, а не искусство. "
Я ожидал возгласов одобрения и нового звона старинных рюмок, но слова мои отчего-то нашли отклик только у туповатого Матвея Иосифовича, который с солдатской решительностью понес какую-то ахинею о решениях последнего съезда правящей партии и о диалектическом материализме, в то время как Михаил Юрьевич и Серафим Дмитриевич только переглянулись, одарив меня снисходительным "ну-ну" или чем-то в этом роде.
Домой я вернулся только к вечеру. Поздравления родителей показались мне вполне искренними - вероятно, подумал я, они уже вполне примирились с тем, что я сам должен выбирать себе в жизни дорогу. "Закон природы, - думал я, наблюдая, как мама (почти безнадежно располневшая за последние годы) ставит на стол праздничные закуски - сыр, шпроты, ломтики просвечивающей колбасы, болгарские помидоры из банки, - состоит в развитии по восходящей. Вот люди, положившие жизнь на воспроизведение потомства, за что им, разумеется, большое спасибо от мироздания. И вот потомство - я с гордостью посмотрел на сестру, обещавшую стать, как говорится в литературе, настоящей красавицей, - вот потомство, которое поступило в лучший университет страны, и намерено перевернуть серьезную отрасль науки."
Один за другим осушил мой отец четыре лафитничка своей "Московской", потеребил себя по небритой щеке, отвалился на спинку дивана.
"Не знаю я, Лена, что будет с нашим Алексеем, - вдруг сказал он. "Ты о чем? - встрепенулась мама. - У мальчика праздник." "Праздник, - повторил отец. - Мальчик настоял на своем. Знаешь, как писали в Библии - зарыл таланты в землю. И все для того, чтобы жить удобно и обыкновенно. Почти как мы с тобой уже почти прожили нашу жизнь."
"Не понимаю я тебя", - беспомощно отозвалась мама.
"Меня и не надо понимать, - сказал отец, - вероятно, спиртное виновато. Или призрак Глеба, который никогда меня не покидает. Я так надеялся на мальчика."
"Экзотерика - не профессия, Боря, - сказала мама решительно. - Мне странно что ты, в твоем возрасте, толкаешь мальчишку Бог знает к чему. "
"И я согласна, - подала голос Алена. - Ты просто напился, папа, и вообще. Зачем ты портишь настроение Алексею?"
"Я и обидеться могу, - сказал я, отодвигая тарелку. - В конце концов, был конкурс, почти семь человек на место. Другой отец гордился бы своим сыном, а ты... ты дразнишь меня какими-то химерами."
"Ладно, -сказал отец. - Оставим этот разговор. Ты уже совсем забыл лиру?"
"Отчего же, - оскорбился я. - Ты мог бы заметить, что я по крайней мере раз в неделю играю. "
"Сыграй".
Я нехотя достал из стенного шкафа в прихожей аккуратно сложенный хитон, надел сандалии, нахлобучил на голову идиотский пластиковый венок. Лира оказалась расстроенной - на самом деле я не играл уже больше месяца. И все-таки я решился - и отошел к окну, и закрыл глаза, как полагается исполнителю, и заиграл один из любимых моих эллонов дяди Глеба - по-русски, разумеется, потому что ни отец, ни мать, ни Аленка по-гречески не понимали, а потом играл еще, и еще, и заметил, как морщины на лице у отца разглаживаются, и как мама слушает с недоумением, а Аленка - с откровенной скукой.