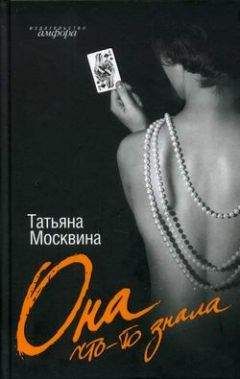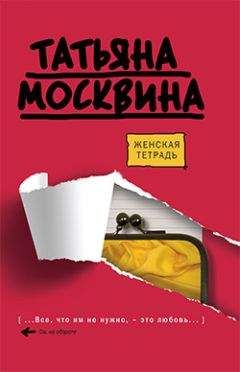Ознакомительная версия.
– Почему? У вас есть средства, тоже сможете продлить себе жизнь.
– Спасибо, я не хочу жить.
Марина сказала это самым обыденным тоном, как говорят «Спасибо, я не хочу есть». Анна рассмеялась.
– Марина, простите, я вас наблюдаю два дня – вы всё делаете с таким удовольствием, с аппетитом… В вас ничто не оборвалось, не погасло. Зачем вы сейчас кокетничаете со мной и говорите, что не хотите жить? Это неправда совсем.
– Ай, улёт! Я же нечаянно представила себе… у-у-уах!… что вы на самом деле мой биограф! И решила спровоцировать роскошный абзац вашего будущего сочинения. «Мы сидели в Сандунах, и Марина вдруг сделалась серьёзной и печальной. „Я не хочу жить», – тихо сказала она. – „Но почему, почему?» – „Это тайна, и я унесу её с собой»”. Тирлим-бом-бом!
– Яков Михайлович считает, что женщины средних лет – опора государства и не имеют права не хотеть жить и решать сами себя. Он говорит, что такой привилегии у них нет и не может быть. Это, говорит, настоящее мужское дело. Не хватает еще, говорит он, чтоб тётки стали кончать с собой от неведомых причин.
– Э! – оживилась Марина. – Эге-ге! У нас прорезались такие миленькие питерские зубочки! Тра-та-та… Угу. Значит, я тётка, а тётка должна знать свое место, так?
Марина приблизила к Анне злые синие глаза и прошипела:
– Я тебе, б… не тётка нах… Я Марина Фанардина, которая никогда тёткой не будет! Я чер ная моль, я летучая мышь. И я решу лично – когда, где и как мне умереть. Я. Это. Решу. Сама. Понятно?
Анна поняла – что устала от этой женщины.
Надо помнить, что смерть – это не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма, развилось как раз такое отношение к смерти: она – наказание. А может быть, так оно и есть? Тогда за что? Тогда и рождение – наказание, со своим, ещё более трудно объяснимым «за что»?
Юрий Олеша. Книга прощания
Мир для Анны стал разваливаться на фрагменты ещё в Сандунах, сбрасывая один за другим круги восприятия. Она уже не смотрела, что и сколько ей наливают, перестала понимать, что находится в чужом городе, с чужими людьми, напротив – обнаружила удивительную, невыразимую общность всего сущего, которая раньше скрывалась от неё за горой ненужных деталей.
Была общая, нежная, сине-серебристая несчастливость, которая имела прямое отношение к луне, в полном праве сиявшей на небе, к лицу Марины Фанардиной, к уличным фонарям, к блеску автомобильных, мимо льющихся боков, который повисал на ресницах, все казалось пропитанным этим блистательным, артистическим несчастьем – быть декорацией, прелестным ничтожеством, переливаться даром, напоказ. Ничто не растёт в лунном свете… Но сверкающая бесполезность ненастоящих существ и фантомных вещей сейчас забавляла Анну, ей всё нравилось, только часто тёрла глаза руками – они отчего-то слезились и побаливали там, глубоко, на дне. Была дикая идея протереть глаза водкой – слава богу, Миска вовремя заметила дурной жест и остановила. Из Сандунов они отправились в подвальный ресторанчик в переулке у Тв…кой улицы: там после водки стали пить коктейли с адскими названиями: «Чёрный оргазм», «Секс на вулкане». Марина утверждала, что им необходимо погрузиться в океан мировой пошлости.
На вершине этого процесса был заказан коктейль «Крейзи вумен» – водка 10 г, джин 10 г, текила 10 г, ром 10 г, коньяк 10 г, мартини 30 г, ананасовый сок 50 г, малиновый сироп 10 г, лёд, мята. Марина сказала, что это есть кратчайший путь к счастью, но «Крейзи вумен» сшиб не её, а Миску, остаток гулянья пролежавшую на заднем сидении. А что, кто-то вёл машину? Конечно: Марина и вела. Анна нисколько не возражала. Ей казалось совершенно ясным, что никто Марину не остановит и ничего с ней не случится. Почему? Потому что луна. Потому что всё чертовски смешно и легко, и ничего нет тяжёлого и настоящего. Анна смотрела, как Марина танцует на парапете набережной, и смеялась, и сама подпрыгивала, удивляясь лёгкости тела.
Память потом сработала, как претенциозное авторское кино: всплывало лицо Марины, шевелящее беззвучно губами, а сумбурный, с всхлипами и междометиями, текст накладывался на падающие в глаза улицы с пустыми тротуарами и оживлёнными трассами. Марина всё порывалась навестить какую-то «толстую сволочь» и объяснить ей, кто есть кто в подлунном мире, причём оказалось, что эта сволочь – её дочь Аля, которая, несмотря на сложные отношения с матерью, жила в одной из её квартир и на её деньги. Марина утверждала, что именно из-за дочери она не стала великой актрисой, и вовсе не потому, что дети забирают силы и время, а потому, что потеряшкам вообще нельзя размножаться.
– Заземлилась, замутила воду, потеряла ключи! – кричала Марина. – Наполовину стала обезьяной… и чего ради? Га-га-гадюка с меня денежки тянет, и я же у неё во всем виноватая…
В полёте прихватили мужчину лет сорока, в дорогом бежевом пальто, который романтично стоял посреди моста, глядя в воду. Марина решила отговорить встреченного от напрасного гибельного шага, но тот, как оказалось, вышел откуда-то пописать и пописал, но это и было всё, что он помнил. Бежевое пальто поместили к Миске на заднее сиденье, и, как спокойно заметила Марина, «теперь на компашку пятьдесят процентов брёвен, непонятно, как отгружать будем».
В её злой, бурной и холодной крови кроме алкоголя явно сновали и другие дурманы, однако принимала их Марина тайно от собутыльниц, не признаваясь и не предлагая разделить. Но концентрация в ней яда, видимо, была такой, что окружающие невольно дурели и сами. Посвистов и припевок в её речи стало значительно меньше, зато повторять слова она стала чаще. Проступила навязчивая тема сравнения, и сравнивала себя Марина не с фривольной певичкой Истамановой и не со своими ближними и дальними современницами, а с Верой Комиссаржевской. Получалось, что вся русская история в XX веке упорно и очень успешно вела к тому, чтобы Марина не стала Комиссаржевской. «У них языки с гувернантками и в них Чеховы и Блоки влюбляются, а у нас мама-воровка с ткацкой фабрики и никаких Блоков». Наконец Марина договорилась до того, что в мире всегда есть всё, что нужно миру, и если в мире нет великих актрис, значит, они миру и не нужны. Анна согласилась, добавив, что не только великих актрис, но и вообще никаких великих людей более не нужно, потому что это ведёт к дискриминации людей по признаку масштаба личности, а это ничем не лучше пропаганды национального или социального превосходства.
– Да! – воскликнула она. – Следовало бы изъять из оборота выражения «великий писатель», «великий учёный». Запрещено!
– А «известный», «знаменитый», фррр… что ещё?., «прославленный», «выдающийся»? Можно?
– «Выдающийся» – ни в коем случае, это дискриминация того ряда, из которого он выдаётся, а остальное можно.
– Не-е. – засмеялась Марина. – Ничего нельзя. Тоже дискриминация. Надо упразднить… это всё. А то получится, что тот, кто известен, лучше тех, кто неизвестен. Обида людям! Подумаешь, одного в лицо знают миллионы, другого тридцать человек, ну и что?
– Правильно, – согласилась Анна. – И вообще, знаете, Марина, я никогда не могла этого понять, что понаписано везде… и в русской литре тоже… что человек – это тайна и бездна. Я не вижу никаких что-то бездн… безднов. Все такие элементарные… вроде автоматов с напитками. Положишь денежку, нажмёшь на кнопочку – льётся в стаканчик. Какие бездны-тайны? Все переварено-выговорено. Заболтано.
Они нашли на Большой Н….ской старорежимную забегаловку с дешёвой водкой и котлетами, где сидели уютные потрёпанные люди, по-хорошему размякнув своими насупленными лицами. Напротив располагался Театр имени Маяковского, и Марина, взяв порцию котлет и вдохновенно повизгивая, принялась мечтать о том, что вот сейчас войдет актриса Н. или режиссёр А. и она скажет им: «Ребята, привет! Я была Марина Фанардина, я нахамила Бисову и теперь я стала бомжом! купите бывшей актрисе водки!» Но випы маяковские не появились, и от котлет набравшись сил, двинулись к устрицам в ресторан на К…рском переулке, где располагалась, по словам Марины, могила русского художественного театра. «Да, помер он и погребён, и за тобой черёд… – пела она Офелией. – Могила! И при ней могильщики с жёнами, и детьми, и внуками, и все это брюхатое, мохнатое… мхатое… кодло выращивает на могилке какие-то свои монструозные огурцы…»Миска и Хорошо Пописавший тем временем лежали в машине, чуток поблевав, блаженно сопя и заслужив от Марины титул «хлипкая молодёжь». Её же саму чёрт не брал.
Однажды оказались вместе в клозете перед зеркалом: Анна увидела двух похожих, небольшого роста, стройных молодых женщин в белых свитерах. Заметила, что Марина что-то достала из сумочки и запила водой прямо из-под крана. «Хочешь?» – спросила она Анну, но та отказалась, и Марина, приблизившись, быстро и хищно укусила её в губы. Анна резко отпихнула Марину, та надулась и с полчаса не разговаривала вовсе. Потом потребовала от официанта изготовить коктейль «Зелёный дракон» (водка, мятный ликёр, лёд) и выкушала трёх «драконов» подряд, после чего Анна сказала, что Вера Комиссаржевская уж точно не могла уговорить за двадцать минут три стакана эдакого пойла. Марина ответила, что, разумеется, эта перехваленная дегенератка ничего такого не могла, раз позволила себе сдохнуть от какой-то пошлой оспы. «Ей было положено покончить с собой, а она всё тянула, тянула – вот и убрали некрасиво, как скотину какую-то. А я тянуть не буду». – «Хотите покончить с собой?» – «Нет, не хочу. Надо». – «Лилия Ильинична позвала?» – «Не позвала. Дверь открыла». – «Ой, не смешите меня, Марина Валентиновна. С вашей любовью к себе…» – «Разве люди не убивают то, что любят?» – «Так то люди, а не актёры. Актёры… того… самоубиваются редко. Гораздо реже писателей, например». – «Ваша правда, госпожа историк. Но можно таблеточками ошибиться, не так ли?» – «Желаете стать Второй лилией? Там было четыре…» – «Как ты мне уже надоела, деушка из Пр…брга… Ехала ты бы уж обратно в этот свой Прбрг… там ваше люди не знают, живы они или уже умерли…»– «Можно подумать, вы здесь это знаете…» – «Нет, это что-то изумительное… постоянно вырастают какие-то лица без спросу, я их пою-кормлю, а они мявкают…» – «Так я пойду себе, чтоб вас не раздражать». – «Вот ещё! А кто наши брёвна будет таскать? Не забывай, что у нас в машине пара гнедых без домкрата…»
Ознакомительная версия.