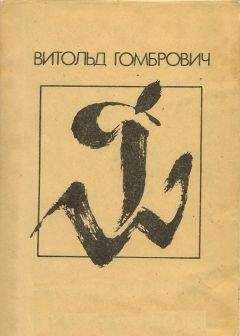В конечном итоге этот вечер оказался самым неприятным моментом, поскольку на следующий день после полудня мы приступили к съемке. Они были в крайнем возбуждении, мы все четверо выпили по стакану вина для храбрости и чтобы взбодриться. (Конрад был у себя в комнате.) Витольд и Анджей все время пререкались, это помогает творческому процессу, как они нам объяснили. Я полностью был с ними согласен. Витольд был оператором и одновременно осветителем, поскольку свет размещался над камерой. Анджей записывал звук, он ловко манипулировал микрофоном на длинной штанге. Их спор все время крутился вокруг вечного вопроса: кто здесь главный? Иными словами, что важнее — изображение или звук? Они бесконечно дискутировали на эту тему, рискуя зациклиться на этой навязчивой идее. Вот, например, в разгар семейной сцены (той, которую мы до этого репетировали) они вдруг останавливаются и начинают спорить. Пришлось дать им выпить (во время споров пересыхает горло), и они с воодушевлением принялись говорить на своем языке. Изображение или звук. И так бесконечно. Невероятно; настолько невероятно, что я решил пойти и купить себе маленькую камеру, чтобы заснять их и сохранить для себя свидетельство сложности искусства. Вот только когда они увидели, что я их снимаю, они тут же остановили меня. Сказали напрямик. Нельзя снимать и сниматься одновременно. Это все равно что лечить и лечиться.
События развивались как по волшебству. Состояние тревоги, в котором мы с Терезой приступили к съемке, постепенно проходило, в этом суть любого привыкания. Мы больше не смотрели в объектив, не шли на поводу у вдохновения. Нужно отдать должное великолепному профессионализму поляков, которые все более и более незаметно, расстелив ковер на диване, снимали нас в самых невероятных ракурсах, словно мы были кенийскими тиграми. Единственно, что выглядело фальшивым во всей этой постановке, это когда мы с Терезой дискутировали перед камерой, — потому что мало походило на нашу обычную жизнь. До этой истории с кино мы вообще не разговаривали, короче, для аудимата[20] это не годилось. Следовало ли нам облечь наш кризис в иную форму, чтобы придать ему большую зрелищность (что мы и делали), или же следовало придерживаться правдоподобия?
Стоп!
Я попросил сделать перерыв, чтобы провести совещание по разбору полета. Мы задали фундаментальный вопрос: каким должно быть искусство — зрелищным или репрезентативным? Иначе говоря, не нужно ли придать остроты нашей истории, чтобы зритель не заскучал? Я предложил Терезе разыграть сцену страсти, я мог бы яростно овладеть ею на буфете в гостиной; поляки горячо поддержали инициативу. Тереза напомнила, что не следует оскорблять чувства молодых зрителей, ведь фильм будут смотреть дети, потому что они горячо полюбят Конрада. Она была права, я, правда, подумал, что скорее всего она больше не испытывает ко мне никакого влечения. Однако, рассуждая об основах искусства, выглядел я достаточно привлекательно. Поляки мило согласились отложить съемку до момента появления более творческого душевного настроя, поляки мило согласились принять участие в нашем разговоре, но полякам было непонятно, как можно вести споры — не важно, на какую тему, — не выпив предварительно хотя бы рюмочку. Я извинился и сконфуженно удалился на кухню в поисках материала для новых идей. И чуть позже, когда мы с Терезой блевали, поляки вооружились своей аппаратурой, чтобы снять сцену, в которой сочетались зрелищность и репрезентативность.
С помощью нескольких таблеток алказельцер мы вернулись к съемкам фильма. Слегка смущенные, мы изо всех сил старались показать себя в самом выигрышном свете. Но когда люди ненавидят друг друга, один из них всегда перетянет на себя одеяло, поэтому невозможно, чтобы оба соперника одновременно показали себя в самом выигрышном свете. (Чтобы понять эту мысль, которая мне кажется несколько усложненной, достаточно представить себе солнце и луну; а чтобы понять глубину этого сравнения, нужно вообразить, что луне хочется сверкать, как солнце.) Таким образом, наша борьба приобретала космический характер. Наши тела, покатившись по полу, произвели большой взрыв. Сначала мы налетели на буфет у левой стены, потом ударились о правую стену, где нас не поджидал ни один из предметов меблировки; чтобы прекратить это движение, нужно было перестать быть телом, принимающим на себя удары, но, поскольку женщины наделены беспрецедентным даром точного планирования, все удары достались мне. К счастью, на пол упала китайская лампа, уже годами намертво закрепленная на буфете, и разбилась на мелкие кусочки. Жуткий грохот. Я сказал «к счастью», ибо привязанность Терезы к этой лампе заставила ее срочно прекратить свое мероприятие по превращению меня в один сплошной синяк.
Стоит только эффектно разбить лампу, как у любого соседа мгновенно просыпается дремавшее доселе желание устроить скандал. Беспокойство порождено конечным результатом под названием «мелкие кусочки». Никто и с места не тронется, если вам разобьют физиономию, глухой шум не привлечет всеобщего внимания. Переполох вызывают резкие звуки. Мы переполошили часть пятого этажа и большинство жильцов третьего. Я на всякий случай успокоил всех, если вдруг кто то из них начнет волноваться. Конрад, которого больше заинтересовало появление вереницы соседей, чем сам шум, подошел ко мне; но я тут же велел ему идти в свою комнату, главное — чтобы он не порезал себе ноги на этом полном опасностей полу. Наконец, когда волнение понемногу улеглось, я подумал, что один из поляков возьмет на себя инициативу по уборке; они были ответственны за весь этот бедлам, ведь мы катались по полу из любви к искусству. Но, увы, они предались размышлениям. Оставалась одна надежда на Мартинеса. Однако уже прошло полчаса, с тех пор как началась драка, а усы так и не появились. Я ни секунды не сомневался, что он воспользуется этим предлогом, чтобы зайти ко мне По правде сказать, он оказался хитрее, чем я предполагал. Вместо того чтобы предаваться возмущению, вызванному непреднамеренным падением одного из принадлежавших нам предметов, он предпочел разрядить обстановку, спокойно поджидая, пока придет его час. Он был наделен простодушием терпеливых.
— Мне показалось, что я слышал шум… я только зашел посмотреть, все ли в порядке… я это говорю, потому что знаю такие случаи, достаточно, чтобы упала лампа, а вы, проходя, можете порезать себе ногу… такое случилось с моим дядей Эдуардо, это не выдумки.
Ладно, я впустил его. Мартинес мог безостановочно чесать языком, обсуждая сомнительные родственные связи, и довести своего собеседника до полуобморочного состояния. Казалось, он так счастлив, что у него появился повод зайти, что, на мой взгляд, был в состоянии посвятить себя уборке осколков. У него будет привилегия по выметанию этих осколков. Как и всякий раз при своем появлении, он обвел глазами комнату в поисках Конрада, но замер, увидев польских журналистов. Невероятно. Глядя на этих неизвестных у меня в гостиной, он как то весь съежился, как купленный по дешевке воздушный шарик, из которого медленно выходит воздух (у робких нет резиновых заплаток). Непонятно, как ему удавалось собирать стадионы, как он утверждает, если он тут же испарился при виде маленькой безобидной камеры. Ах да, я не успел его предупредить. Мартинес стремглав помчался к себе. Я решил, что у него аллергия на поляков, и определил свой диагноз: острый полонит.
VI
Все это выглядело достаточно неразумно. Все это напоминало большой розыгрыш. Периодами ко мне возвращалась ясность ума (это несомненно). Моя жизнь сводилась к яростной борьбе за простодушного чудака, а на все прочее: былые слабости, надежды, связанные с Терезой, семейную жизнь — я смотрел как бы с высоты птичьего полета. Забавные эпизоды, и только. Я выбрал для себя безграничную любовь, вернее, эта любовь выбрала меня; иначе все было бы слишком просто. Привязанность не выбираешь. Это последнее изречение — скорее из области клише, нежели проявление трезвости ума. Вот одно из моих любимых слов — клише. Я постепенно осознавал себя как клише ситуации, в своем роде исключительной. Нас снимали для фильма, на нас показывали пальцем, но, однако, изнутри моя жизнь казалась мне до прозрачного ясной: подлежащее, сказуемое и время от времени — дополнение. В этом заключалась любовь. Исходя из этой любви нужно было что то предпринимать. Однако я оставлял эту мою любовь часами сидеть у себя в комнате. Мне казалось, что я превратился в раба этой навязчивой идеи о моей любви к Конраду. Что то расплывчатое, размывающее суть, но при этом удивительно прекрасное. Прекрасное, ибо наполненное смыслом. Словно я боролся с пустотой или старался походить на отца. Разумеется, за все эти годы не произошло ничего особенного, что могло бы спровоцировать эту ситуацию. Возбуждение — следствие полного отсутствия предшествующих ему обстоятельств.