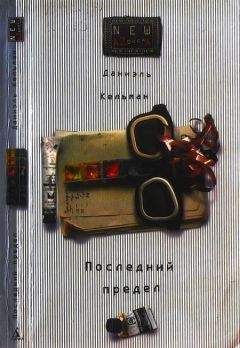Два других, ранних письма Риминга были адресованы Каминскому-школьнику: в первом он советовал больше не убегать из закрытой частной школы, «это бессмысленно, нужно выдержать все до конца; я не стал бы утверждать, что Вы когда-нибудь будете кому-то благодарны за годы, проведенные в школе, но обещаю, что Вы это преодолеете, в принципе можно преодолеть почти все, даже если сам того не хочешь». В другом письме он сообщал, что «Слова на обочине» выйдут в следующем месяце и что он ждет появления книги «с робкой радостью ребенка, опасающегося, что получит на Рождество не те подарки, о которых мечтал, и все-таки знающего, что, что бы он ни получил, это и есть тот самый желанный подарок». Понятия не имею, что он хотел этим сказать. Тон письма был холодный и жеманный. Риминг мне никогда не нравился.
Следующее письмо было от Адриенны. Она долго думала, решение далось ей нелегко. Она знает, что Мануэль «никого не способен сделать счастливым и что слово „счастливый“ означает для него не то же, что для большинства. Но я согласна, я выйду за тебя замуж, я беру ответственность на себя, и даже если это ошибка, я ее совершу. Тебя это, может быть, и не удивляет, а я просто поражена собственным решением. Спасибо за то, что дал мне подумать, будущее внушает мне страх, но, может быть, это неизбежно, и, возможно, я когда-нибудь произнесу те слова, которые ты так хотел бы услышать».
Прочитав письмо еще раз, я так и не смог понять, что в нем кажется мне таким зловещим. И вот остался только один лист тонкой бумаги в клетку, как будто вырванный из школьной тетради. Я положил его перед собой и разгладил. Оно было написано ровно за месяц до письма Адриенны. «Мануэль, я пишу это точно во сне. Я только…» И тут меня отвлекло электрическое жужжание: раздался звонок в дверь.
Я озадаченно спустился по лестнице и открыл дверь. На забор облокотился седой человек в тирольской шляпе, рядом с ним на земле стояла пузатая сумка.
— Вы к кому?
— Доктор Марцеллер, — представился он басом. — Назначено.
— Вам назначено?
— Ему. Я его врач.
Ничего подобного я не ожидал.
— Сейчас не время, — сдавленным голосом произнес я.
— Как не время?
— Сейчас, к сожалению, не время. Приходите завтра! Он снял шляпу и пригладил волосы.
— Господин Каминский работает, — сказал я. — Он не хотел бы, чтобы ему мешали.
— Вы что, хотите сказать, что он рисует?
— Мы работаем над его биографией. Ему необходимо сосредоточиться.
— Над его биографией. — Он снова надел шляпу. — Необходимо сосредоточиться. — Какого дьявола он все повторяет?
— Моя фамилия Цёльнер, — сказал я. — Я его биограф и друг. — Я протянул ему руку, он, помедлив, ее пожал. Крепко, до боли. Я ответил тем же. Он недоверчиво посмотрел на меня.
— Я пойду к нему. — Он сделал шаг вперед.
— Нет! — воскликнул я и преградил ему дорогу.
Он в недоумении уставился на меня. Он что, хочет проверить, смогу ли я его задержать? Только попробуй, подумал я.
— Это ведь наверняка всего-навсего обычный осмотр, — сказал я. — С ним все в порядке.
— Откуда вы это знаете?
— Он действительно очень занят. Он не может отвлечься, у него так много… воспоминаний. Эта работа для него крайне важна.
Он пожал плечами, прищурился и отошел на шаг. Я победил.
— Весьма сожалею, — сказал я великодушно.
— Так как там вас зовут?
— Цёльнер, — повторил я. — До свидания.
Он кивнул. Я улыбнулся, он неприязненно посмотрел на меня, я закрыл дверь. Стоя у кухонного окна, я наблюдал, как он идет к машине, ставит сумку в багажник, садится за руль и заводит мотор. Потом он притормозил, опустил окно и еще раз взглянул на дом; я отпрянул, подождал несколько секунд, снова подкрался к окну и увидел, как машина исчезает за поворотом. Я с облегчением поднялся по лестнице.
«Мануэль, я пишу это точно во сне. Я только воображаю, как напишу это письмо, потом положу в конверт и отправлю его из сна в реальность, к тебе. Я только что ходила в кино, де Голль в новостях был смешной, как всегда, на улице оттепель, первая в этом году, и я пытаюсь внушить себе, что это не имеет к нам никакого отношения. В сущности ни один из нас — ни я, ни бедняжка Адриенна, ни Доминик — не верим, что от тебя можно уйти. Но, может быть, мы ошибаемся.
Хотя прошло так много времени, я до сих пор не поняла, что мы для тебя значим. Может быть, мы для тебя зеркала (уж в них-то ты разбираешься), задача которых — показать тебе твое отражение и превратить тебя во что-то величественное, многоликое и отрешенное. Да, ты прославишься. И ты это заслужил. А теперь ты, наверное, отправишься к Адриенне, возьмешь то, что она может тебе дать, и позаботишься о том, чтобы когда-нибудь позднее, уходя от тебя, она сочла это своим собственным решением. Может быть, ты сумеешь сделать так, что она уйдет к Доминику. Тогда в твоей жизни появятся другие люди, другие зеркала. Но я больше не вернусь.
Только не плачь, Мануэль. Ты всегда любил поплакать, но на сей раз предоставь это мне. Разумеется, это конец, и мы умираем. Но это не значит, что мы не проживем еще долго, не найдем других возлюбленных, не будем гулять, ночью видеть сны и проделывать все, на что обычно способна марионетка. Не знаю, на самом ли деле я это пишу, и тем более не знаю, отправлю тебе это письмо или нет. Но если все-таки да, если я смогу это сделать и ты его прочтешь, то, пожалуйста, пойми его именно так: считай, что я умерла! Не звони и не ищи меня, меня больше нет. Я сейчас смотрю из окна и спрашиваю себя, почему все они не…»
Я перевернул лист, но на обратной стороне ничего не было, конец письма, очевидно, потерялся. Еще раз просмотрел все листы, но недостающего среди них не было. Со вздохом достал блокнот и переписал все письмо. Карандаш несколько раз ломался, я спешил и писал неразборчиво, но минут за десять все-таки его осилил. Убрал все бумаги обратно в папку и положил ее на самое дно ящика. Закрыл шкафы, разложил по своим местам кипы документов, проверил, все ли ящики задвинул. Удовлетворенно кивнул: никто ничего не заметит, я все провернул очень ловко. Солнце как раз заходило, несколько секунд горы казались отвесными громадами, потом отступили и превратились в пологие и далекие. Пора было разыграть козырную карту.
Я постучал, Каминский не ответил.
Я вошел. Он сидел в кресле, диктофон по-прежнему лежал на полу.
— Это опять вы? — спросил он. — А где Марцеллер?
— Доктор только что звонил. Он не приедет. Мы можем поговорить о Терезе Лессинг?
Он молчал.
— Так мы можем поговорить о Терезе Лессинг?
— Вы точно спятили.
— Послушайте, я хотел бы…
— Куда подевался Марцеллер? Он что, хочет, чтобы я сдох?
— Она жива, и я с ней говорил.
— Позвоните ему. О чем он вообще думает!
— Я говорю, она жива.
— Кто?
— Тереза. Она вдова. Живет на севере, у моря. У меня есть ее адрес.
Он не ответил. Медленно поднял руку, потер лоб, снова ее опустил. Открыл и снова закрыл рот, на лбу у него залегли морщины. Я проверил, работает ли диктофон: мы заговорили, и он включился автоматически, записывая каждое слово.
— Доминик сказал вам, что она умерла. Но это неправда.
— Не может быть, — сказал он тихо. Грудь у него вздымалась и опускалась, я испугался, вдруг у него случится инфаркт.
— Я сам узнал об этом десять дней назад. И даже без особых проблем.
Он не ответил. Я внимательно за ним наблюдал: он отвернулся к стене, не открывая глаз. Губы у него дрожали. Он шумно, с присвистом, дышал, надувая щеки.
— Я скоро с ней встречусь. Могу спросить у нее все, что хотите. Вы только должны рассказать мне, что тогда произошло.
— Да как вы смеете! — прошептал он.
— Вы что, не хотите узнать правду?
Казалось, он размышляет. Все, теперь он у меня в руках. Он этого не ожидал, он тоже недооценивал Себастьяна Цёльнера! От возбуждения я не мог усидеть на месте, подошел к окну и заглянул сквозь пластины жалюзи. С каждым мгновением огни в долине становились все ярче и отчетливее. Круглые кусты выделялись в сумерках, словно выгравированные на меди.
— На следующей неделе я поеду к ней, — сказал я, — тогда я смогу у нее спросить…
— Только не на самолете, — прервал меня он.
— Нет-нет, — успокоил я его. Бред какой, он все-таки не в себе. — Вы дома. Все в порядке.
— Лекарства у постели.
— Очень хорошо.
— Идиот! — спокойно сказал он. — Вы должны положить их в чемодан.
Я уставился на него:
— Положить в чемодан?
— Мы едем к ней.
— Вы шутите!
— Почему?
— Я могу передать ей все ваши вопросы. Но это невозможно. Вы для этого слишком… больны. — Я чуть было не сказал «стары». — Я не могу взять на себя такую ответственность. — Это что, мне снится или мы и вправду говорим о поездке?