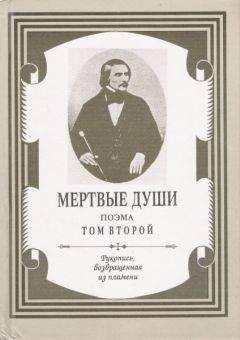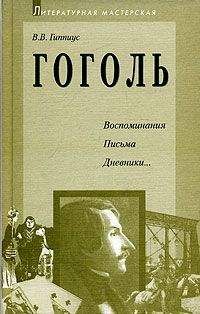— А господину Платонову что за резон? — спросил Леницын. — Это было бы к месту, ежели б пустошь и вправду была его, но она-то моя. Вот, взгляните на план. — С этими словами он прошёл к бюро, и выдвинув верхний ящичек, извлёк из него квадрат плотной бумаги. С хрустким шорохом развернув выросшую чуть ли не в десятеро бумагу, Леницын разложил её по стоявшему вблизь канапе столику и стал доказывать Чичикову принадлежность ему пустоши.
Чичиков, вежливо следивший за указательным пальцем Леницына, бегающим по вычерченным на бумаге линиям, учтиво молчал, а потом, взглянув ему в глаза ясным взглядом, объявил, что как ни прискорбно ему об том говорить, но на плане не так ясно видно, чтобы пустошь была его, Леницына, и что вопрос, действительно, может быть спорный.
На что приостановившийся Леницын сказал несколько обиженно:
— Но ведь есть свидетели, — старики ещё живы и помнят.
— То-то и я говорю, что затянется, — со вздохом продолжал Чичиков. — Ни вам, ни Платоновым проку не будет никакого. Когда ещё кто из вас по решению суда во владение войдёт… Да если суд в вашу пользу решит, то опять вам выгоды никакой.
— Как так? — удивлённо глянул на него Леницын.
— А по причине, что к тому времени вы уже в должности будете, из-за которой, собственно, и воротились, — решил рискнуть Чичиков и по лицу Леницына понял, что не промахнулся. — И ничего, кроме сраму, простите за прямоту, вам это не принесёт. Скажите сами, где видано, чтобы губернатор судился с помещиком собственной губернии из-за спорного клока земли, все скажут, что вы его укатали, если земля вам достанется, и всяк за вашей спиной будет и это дело, и ваше имя трепать. Так что, ваше превосходительство, можете сами видеть, к чему подобное положение может привесть. С другой стороны, ежели по-моему поступить, то факт, что вы в известную должность вступаете как раз кстати.
— А именно? — спросил с интересом Леницын.
— Да очень просто, — ответил Чичиков. — Отдаст вам Василий Михайлович земли по вашему выбору. А вы тут — губернатор. Нешто будет он у вас силком назад требовать? Нет же! Войдёте, можно сказать, в бессрочное владение. Дело пошло на мировую, все довольны, вы не во вражде, а в дружбе с Платоновым, а я влияние на младшего брата имею и всё вам так устрою, что земля эта вам приписана будет. Они оба даже очень рады будут вам такую услугу оказать. Здесь и сомневаться нечего.
— Ну да! — не согласился Леницын, — это выходит, любезный Павел Иванович, что я, пусть даже из-за спорной земли, им как бы обязанным буду?!
— И вовсе нет, — возразил Чичиков, — вовсе нет. Они хозяева крепкие, как-никак, а десять тысяч десятин земли — не шутки. Они у вас одалживаться ничем не станут. А вам ведь нужна будет поддержка от сильных помещиков, нужны будут друзья среди местного дворянства, вот я вам и предлагаю прямо сегодня двоих таких друзей завести из этих братьев. И всего делов только — толково отписать ответ на привезённое мною письмо, — слегка разводя руками и улыбаясь, сказал Чичиков.
— В каких же выражениях изволите, чтобы я отписал? — спросил Леницын, ещё слегка гордясь, но в тоне его уже прочитывалось смирение с доводами Чичикова.
— Экая задача, — усмехнулся Павел Иванович. — Я, к примеру, отписал бы так. — И он, уставившись в потолок и приложа палец к нижней губе, стал говорить с задумчивым видом: — Милостивый государь! Несмотря на довольно резкий тон вашего письма, решил ответить вам в простой и дружественной манере. — Чичиков немного помолчал, точно продумывая, как бы оно лучше сказать далее, так, будто текст этого письма не был состряпан им уже заранее, разве что не по дороге в имение Леницына. — Тон же ваш, — продолжал Чичиков, — приписываю тому, что, считая себя обиженным мною и не вникнувши в обстоятельства, дали вы волю своему гневу. По сему поводу хочу заметить, что я никогда не питал намерений к нанесению обид кому бы оно ни было, а тем более близкому и уважаемому мною соседу. — Павел Иванович мельком глянул на Леницына и, перехватив его внимательный взгляд, задиктовал вновь. — Не стану скрывать, что имея действительную надобность в земле и почитая являющуюся предметом нашего с вами недоразумения пустошь своею, как оно отмечено на поземельном плане и как тому имеются свидетели, я, не сочтя свои действия могущими нанести вам какой-либо ущерб, присовокупил её к своим землям. Но теперь, войдя в вашу претензию, как изложил мне её ваш друг и посредник Павел Иванович Чичиков, готов уступить мою пустошь для отправления на ней вашими крестьянами святых для меня русских обычаев; со своей стороны рассчитываю получить в обмен необходимые мне земли, скрепив всё это дело как должно по закону. — Чичиков закончил диктовать, выделив во время диктанта голосом про «святые русские обычаи», так как полагал, что сие должно расположить Василия Михайловича. — Вот в таком духе, — сказал он, — ну и, конечно, подписать как-нибудь посердечнее, но не роняя себя, — присоветовал он так же, как в своё время советовал Василию Платонову.
— Ну что ж! — сказал Леницын, — не вижу причин к тому, чтобы не писать подобного письма. Давайте пройдём в кабинет, — предложил он Чичикову, вставая с канапе и вежливо пропуская его впереди себя, и Павел Иванович так же вежливо склоняя слегка голову, бочком последовал в кабинет господина Леницына. Кабинет, как и всё в доме, тоже производил впечатление новизны, всё сияло и блестело, все вещи были как бы умыты, отдавали свежестью и неплохим петербургским вкусом.
Леницын присел к столу и довольно скоро убористым безукоризненным почерком написал письмо, почти в точности по рассказанному Павлом Ивановичем образцу.
— Вот и славно, вот и хорошо, — улыбался Чичиков принимая из его рук готовое послание. — Сами изволите увидеть, как это дело решится, и в самый что ни на есть кратчайший срок. И вам не придётся ни о чём беспокоиться, тем более в такое для вас сурьёзное время… — сказал он, строя значительное выражение в лице.
Леницын, качнув головой, усмехнулся.
— Ну скажите, Павел Иванович, откуда вам только известно то, что, как я полагал, совсем никому не должно быть известным?
— Слухами земля полнится, слухами… — ответил Чичиков. — Ведь это подумать страшно, — сказал он, — какая ответственность на вас ложится, и в такие молодые ещё годы. Право, ваше превосходительство, вы, должно быть, геройский человек, неужто вам и вправду совсем не боязно? — спросил Чичиков с видом совершеннейшего простодушия на челе.
— Как вам сказать, — отвечал Леницын, делая суровые и одновременно задумчивые глаза, — главнейшее сейчас для меня дело будет образовать новое губернское правление.
— А что, старое, надо думать, нехорошо? — снова с видом простоты спросил Чичиков.
— Не то чтобы нехорошо, но люди-то не свои. А ведь какие дела на губернском правлении! Все что ни на есть — самые главные. Все случившиеся чрезвычайные происшествия, все на нас, — сказал Леницын, — пожары, самоуправства, скоропостижные смерти, убийства, неподчинения и неповиновения, а тут ещё и неурожаи, голод, засуха, саранча и прочее, и всё это на нас, на правление, — говорил он. — Не скрою, трудно было подыскать толковых советников, ну, да этот вопрос уже решённый, знающие подбираются люди, так что работа, смею надеяться, пойдёт. Но самое главное, что я для себя решил, это заняться как надо, как следует «Приказом общественного презрения»; построить новые больницы, рабочие дома, богадельни и прочие богоугодные заведения. Это то поприще, которое я для себя вижу и которым всенепременно займусь в первую голову, — несколько возбудясь, говорил Леницын.
А Чичиков подумал: «Ещё бы, ведь государь на это обращает первейшее внимание и за это награды даёт. Ясное дело, что ты расстараешься»- но вслух ничего не сказал.
Они ещё поговорили о каких-то общих, незначащих вещах, и Чичиков, раскланявшись с хозяином и вышедшей проводить гостя хозяйкой, поехал назад к братьям Платоновым, надеясь поспеть к ужину.
— Не забудьте познакомить меня со своей тётушкой, — сказал он при прощании Леницыну, сел в свою новую коляску и укатил. А Леницын, стоя на ступенях дома и глядя вслед ползущей вверх по косогору тройке, подумал: «А почему бы и нет? Вот ведь какой ловкий господин. Чем чёрт не шутит».
Герой же наш, столь удачно сторговавший у Леницына ещё девять душ, находился между тем в глубокой задумчивости. И задумчивость его была такого свойства, что посещает человека в минуты, когда он вдруг, оторвавшись от своего тяжёлого и забирающего его целиком занятия, оглядывается вокруг и видит, что другие, может быть и худшие, чем он, живут легче, счастливее него, живут другим размером дел, и тогда цель, достижение которой казалось ему чуть ли не вершиною всей его жизни, открывается ему внезапно в своей мелкой и смешной сути. Именно такой стороной повернулись к Павлу Ивановичу его «мёртвые души» и те хлопоты о них, те хитрости и унижения, до которых он опускался, выманивая, выпрашивая, выговаривая их у живущих себе на святой Руси без особых хлопот помещиков, прояснились в воображении его во всей их мелкой унизительности. Злая обида, проливающаяся в сердце его, застила ему глаза, и он не видел сейчас ни открывавшихся зелёных и голубых далей, ни чудесных, разве что сошедших с картины, видов. Пред внутренним взором Павла Ивановича мелькали чьи-то лица, чьи-то голоса ввинчивались в ухо, чему-то смеялись, что-то нашёптывали, советовали, но оставляли в душе его лишь чувство тоски и пустоты. Ему захотелось, как когда-то, когда он был маленьким мальчиком, спрятаться с головою под перину или забиться куда-нибудь в похожее место, чтобы выплакались горькие слёзы и отлегло бы от сердца. Но желание это было невыполнимо, он не был уже то дитя, которое при каждом слове может бежать до маменьки и, пряча лицо у ней в подоле, воображать, что прячется ото всего мира и ото всего же мира может уберечь душу свою.