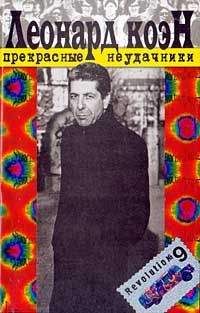Ирокезы почти победили. У них имелось три главных врага – гуроны, алгонкины и французы. «La Nouvelle-France se va perdre si elle n'est fortement et promptement secourue»[17]. Так писал преп. Вимон, Superieur de Quebec[18], в 1641 году. Уух! Уух! Вспомните кино. Ирокезы были конфедерацией пяти племен, живших между рекой Гудзон и озером Эри. С востока на запад там жили аньеры (которых англичане называли могавками), онейуты[19], ононтаги[20], каюга и сенека. Могавки (которых французы называли аньерами), занимали территорию между верховьями Гудзона, озером Джордж, озером Шамплейн и рекой Ришелье (которая первоначально называлась рекой Ирокезов). Катрин Текаквита принадлежала к могавкам, родилась в 1656 году. Двадцать один год жизни она провела среди могавков, на берегах реки Могавк, настоящая леди могавков. В конфедерации ирокезов было двадцать пять тысяч душ. Они могли выставить на бой две с половиной тысячи воинов, то есть десять процентов конфедерации. Из них лишь пять или шесть сотен были могавками, но эти были особенно свирепы, и более того – у них имелось огнестрельное оружие, полученное от голландцев из Форт-Оринджа (Олбани) в обмен на меха. Я горжусь тем, что Катрин Текаквита была или есть могавк. Ее собратья словно вышли из бескомпромиссной черно-белой кинокартины – вроде тех, что снимали до того, как вестерны стали психологическими. Сейчас я воспринимаю ее, как многие мои читатели, должно быть, воспринимают хорошеньких негритянок, сидящих напротив в метро, бог весть какие розовые секреты выстреливают их тонкими мускулистыми ногами. Многие мои читатели не узнают этого никогда. Это что, честно? Как насчет лилейных хуев, неведомых столь многим американским гражданкам? Раздевайтесь, раздевайтесь, хочу крикнуть я, давайте посмотрим друг на друга. Образования нам! Ф. говорил: «В двадцать восемь (да, друг мой, это заняло много времени), я перестал ебать цвета». Катрин Текаквита, надеюсь, ты очень темная. Я хочу ощутить слабый запах сырого мяса и белой крови от густых черных волос. Надеюсь, на них осталось немного жира. Или он весь погребен в Ватикане, хранилище тайных гребней? Однажды ночью, на седьмом году нашего брака, Эдит раскрасила себя темно-красной жирной штукой, которую купила в лавке театрального реквизита. Штука выдавливалась из тюбика. Без двадцати одиннадцать, возвращаюсь из библиотеки, и тут она, абсолютно голая посреди комнаты, сексуальный сюрприз для старика. Она вручила мне тюбик со словами: «Станем другими людьми». Видимо, подразумевая новые способы целоваться, жевать, сосать, скакать друг на друге. «Это глупо, – сказала она, ее голос надломился, – но давай станем другими людьми». Чего ради унижать ее порыв? Возможно, она хотела сказать: «Отправимся в новое путешествие, куда отправляются лишь незнакомцы, и мы сможем вспоминать его, когда снова станем самими собой, и потому никогда больше не будем просто самими собой». Возможно, она воображала какой-то пейзаж, куда ей всегда хотелось попасть, как я представлял себе свое главное путешествие с Катрин Текаквитой – северная река, ночь, чистая и яркая, как речная галька. Я должен был пойти за Эдит. Должен был вылезти из одежды и окунуться в жирную маскировку. Почему лишь сейчас, годы спустя, у меня встает хуй, когда я вновь вижу ее перед собой, так нелепо раскрашенную, груди темны, как баклажаны, а лицом походит на Эла Джолсона[21]? Почему сейчас так тщетно мчится кровь? Я отверг ее тюбик. «Прими ванну», – сказал я. Я слушал, как она плещется, и предвкушал нашу полуночную трапезу. От своего подлого маленького триумфа я проголодался.
8.
Множество священников были убиты, съедены и тому подобное. Микмаки, абенаки, монтанье, атикамеки, гуроны – Общество Иисуса потешилось со всеми. Наверняка в лесах масса спермы. Только не ирокезы – те съедали сердца пастырей. Интересно, как это выглядело? Ф. рассказывал, что однажды ел сырое овечье сердце. Эдит любила мозги. Рене Гупиль[22] попался 29 сентября 1642 года – первая жертва могавков, облаченная в черную рясу. Мм-м, чавк. Преподобный Жог[23] пал от «томагавка варвара» 18 октября 1646 года. Все это записано черным по белому. Церковь любит такие подробности. Я люблю такие подробности. Вот крошечные жирные ангелы со своими педерастическими жопками. Вот индейцы. А вот Катрин Текаквита спустя десять лет, лилия, пробившаяся из земли, которую Садовник полил кровью мучеников. Ф., ты сломал мне жизнь своими экспериментами. Ты ел сырое овечье сердце, ты ел кору, однажды ты ел говно. Как мне жить в одном мире с твоими проклятыми приключениями? Ф. однажды сказал: «Ничто не нагоняет такого уныния, как чудачества современника». Она была из клана Черепах – лучшего клана могавков. Наше странствие будет неспешным, но мы победим. Ее отец был ирокез, мудак, как впоследствии выяснилось. Мать – христианка из племени алгонкинов, крестилась и училась в Три-Риверз, а это для индейской девушки городок омерзительный (как недавно мне сказала одна юная абенаки, которая училась там в школе). Мать взяли в плен во время набега ирокезов, и трахнули так, как, наверное, не трахали никогда в жизни. Кто-нибудь, помогите мне, помогите моему грубому языку. Где моя мелодичная речь? Разве не собирался я говорить о Боге? Она стала рабыней ирокезского воина, и у нее был совершенно дикий язык или что-то вроде, потому что он женился на ней, хотя мог просто ею помыкать. Племя приняло ее, и с того дня она получила все права члена клана Черепах. Известно, что она непрестанно молилась. Оп, оп, милый боженька, уыы, пук, дорогой всевышний, хлюп, уррр, плюх, ик, тык, зззззз, хррр, Иисусе, – надо думать, она превратила его жизнь в ад.
9.
Ф. говорил: «Ничего не связывай». Он выкрикнул это, обозревая мой мокрый хуй лет двадцать назад. Не знаю, что он разглядел в моих обморочных глазах – может, свет обманчивого постижения вселенной. Иногда после того, как я кончаю, или прямо перед тем, как проваливаюсь в сон, мне кажется, что мое сознание выходит на бесконечную дорогу шириной в нить, нить цвета ночи. Прочь, прочь по узкому шоссе плывет мое сознание, ведомое любопытством, сияющее приятием, в дальние дали, подобно пернатому серпу, что великолепным броском отправлен в глубины света над потоком. Где-то, вне пределов досягаемости и контроля, серп выпрямляется в стрелу, стрела стесывается в иглу, а игла сшивает мир в одно целое. Она пришивает кожу к скелету и помаду к губам, пришивает грим к Эдит, сгорбившейся (насколько припоминаем я, эта книга или вечное око) в нашем неосвещенном полуподвале, она пришивает епитрахили к горе, она пронизывает все неумолимым током крови, и дорога за ней полнится утешительной вестью, восхитительным осознанием единства. Все разрозненные части мира, противоположные крылья парадокса, монетные лики проблемы, обрывающие лепестки вопросы, ножницы сознания, все полярности, предметы и их образы, и предметы, не отбрасывающие тени, и какие-то будничные взрывы на улице, это лицо и то, дом и зубную боль, взрывы, в названиях которых разнятся лишь буквы, – моя игла пронзает все это, а я сам, мои алчные фантазии, все, что было и есть, – мы часть ожерелья бесподобной красоты и бессмысленности. «Ничего не связывай, – кричал Ф. – Расставь вещи на своем арборитовом столе, если нужно, но ничего не связывай. Вернись, – орал Ф., дергая меня за обмякший член, как за веревочку, и тот раскачивался, будто обеденный колокол под рукой хозяйки дома, требующей очередной смены блюд. – Не будь дураком», – вопил он. Двадцать лет назад, говорю. Сейчас я лишь строю догадки, что же вызвало его вспышку, – видимо, идиотская улыбка вселенского приятия, отвратительная на лице молодого человека. Это было в тот же день, когда Ф. изложил мне одну из самых замечательных своих выдумок.
– Друг мой, – сказал Ф., – ты не должен чувствовать себя виноватым из-за всего этого.
– Всего чего?
– О, ну ты знаешь – отсасывать друг у друга, смотреть кино, вазелин, валять дурака с собакой, сачковать на госслужбе, вонь подмышечная.
– Я ни капли не чувствую себя виноватым.
– Чувствуешь. А не стоит. Видишь ли, – сказал Ф., – это вообще не гомосексуализм.
– Ох, Ф., заткнись. Гомосексуализм – просто название.
– Почему я тебе это и говорю, друг мой. Ты живешь в мире названий. Вот почему я милостиво тебе это сообщаю.
– Ты хочешь испортить еще один вечер?
– Слушай меня, жалкий А.!
– Это ты чувствуешь себя виноватым. Виноватым до чертиков. Ты – виновная сторона.
– Ха. Ха. Ха. Ха. Ха.
– Я знаю, чего ты хочешь, Ф. Ты хочешь испортить вечер. Ты не удовлетворен парой незамысловатых оргазмов и тычком в задницу.
– Хорошо, друг мой, ты меня убедил. Я подыхаю от чувства вины. Я буду молчать.
– Что ты собирался сказать?
– Одну выдумку моей виноватой вины.
– Ну, скажи, раз уж начал.
– Нет.