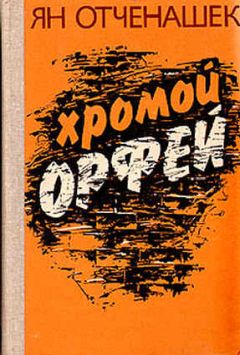Он наткнулся на нее, когда потерял уже всякую надежду, наткнулся в пустом коридоре предпоследнего вагона. Она стояла, глядела в окно, почти касаясь лбом стекла, а руки держала в карманах старенького пальто.
Смотрела, как рассветает. Неподвижная, тихая. Может, и не дышала.
Не оглянулась, даже когда за его спиной громко хлопнула дверь. И ему показалось, что она отделена незримой стеной от удручающей обстановки раннего поезда, что она послала сюда, к ним, только тело свое, а сама осталась где-то... Он замер в двух шагах от нее, прислонился спиной к перегородке, стараясь успокоить сердце. Она не может не услышать, как оно бьется. Искоса он смотрел на ее профиль, вычерченный на сером фоне рассвета, и не двигался. Вот видишь, все-таки нашел! Так делай же что-нибудь!
Поезд дернулся. Она обернулась, без улыбки посмотрела, как смешно он изогнулся, удерживая равновесие, как взмахнул руками. Найдя ручку двери, он ухватился за нее.
И только тогда осмелился поднять глаза.
Впервые она обратила на него внимание! Лишь на долю секунды и совсем без интереса остановила взор на его помертвевшем лице - он благословил в эту минуту полумрак, - и в глазах ее, кажется, мелькнула улыбка, но скорее всего это ему показалось. Быть может, он и сделал попытку что-то выжать из себя, чтоб не упустить даже этот, совсем не возвышенный случай, но ничего не вышло. Закашлялся, смешался, отвел глаза.
Когда через минуту он глянул в ее сторону, она уже снова уставилась в окно и была далеко-далеко. Утонула в самой себе.
За окном проползали слезящиеся стены доходных домов, скелет эстакады, глубокое ущелье улиц внизу, облысевшая насыпь, окна, заклеенные крест-накрест, вонючие дворики с перекладинами для выколачивания ковров. Трубы, антенны. Дома показывали поезду свою изнанку. Звякнул колокольчик, поезд ускорил перестук колес, ветер размазывал капли на грязном стекле. Мир поднимался из стоячей воды.
Уйди ты лучше! Недотепа!
Гонза дернул ручку двери и застиг врасплох единственного пассажира купе. Притаившийся в углу старикашка со сморщенным лицом, - откуда я его знаю? испуганно вздрогнул. Сплюнул даже:
- Тьфу! Ну и напугал!
Левой рукой он все еще сжимал ремень для опускания окна, в правой у него был нож, которым он старался этот ремень срезать. Старик застыл было в этой недвусмысленной позе, но только на миг. При виде Гонзы он облегченно вздохнул и выпустил ремень. Провел ладонью по щетинистому подбородку.
- А я-то испугался, думал - проводница. Натяни на бабу мундир - хуже черта станет! Крику-то из-за паршивого куска кожи...
Он с подчеркнутой неторопливостью сложил нож и засунул его в карман брюк. Ткнул пальцем в ремень:
- Я и подумал: ну к чему он тут? Так только, болтается зря... Все равно после войны новые вагоны будут. Это уж точно.
Отнюдь не желая открыть шлюзы старческой болтовне, Гонза зябко забился в угол у двери. Отличное место: наискосок, через дверное стекло, он мог видеть девушку, мог беспрепятственно смотреть на нее, обращаться к ней с долгим, взволнованным монологом - только бы замолчал этот старикашка. Смешно. Подумаешь, ремень. Мне-то что? Везде воруют - на заводе уголь крадут целыми вагонами, топить-то нечем, все крадут: железо, лаки, резцы, лампочки, уголь, рабочее время, и все об этом знают, и никто слова не скажет; воруют даже такие люди, которым это раньше и в голову бы не пришло.
- Ты не думай, я не воришка... Таких мыслей ты не допускай, несправедливо это будет, малый...
- Да ради бога, на здоровье.
- Я ведь только для ботинок. Понял? Гляди - вот так выкроить, и готовы две набойки. И сойдет для грязи. Если это останется между нами, я тогда... - он изобразил, как перерезал бы ремень. - Чик - и готово!
- Отстаньте от меня, - сердито сказал Гонза. - Ничего я не видел. Я спать хочу.
В тишине монотонно постукивали кастаньеты колес, паровик втаскивал вагоны на холмы предместья, сипло вздыхая.
Светало. Где-то хлопнули дверью, разнесся хриплый кашель - и опять бормочущая тишина и ритм, от которого опускаются веки, наливаясь горячей тяжестью, и слабеет тело в сладкой истоме. Гонзе так знакомо это промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Заменитель, эрзац - не более. Но со временем научаешься спать в любом положении: скорчившись, зарывшись в мешки на крыше малярки, на стульчаке в уборной, уткнувшись лицом в ладони, в раздевалке на калориферах центрального отопления, стоя, как лошадь; со временем все это складывается в целостную систему, ты делаешься мастером молниеносного засыпания в любом положении, на самое короткое время - пожалуй, ты ухитрился бы заснуть даже вися вниз головой, как летучая мышь, или на ходу, на бегу даже. Достаточно закрыть глаза - и падаешь, падаешь... А потом в испуге схватываешься, что вот-вот брякнешься башкой в тарелку с похлебкой - стоп! И приходишь в себя от всех этих снов и засыпаний, от дрем и дремот, полуснов и четвертьснов - с выпотрошенным мозгом, с жарким пятном на лице, а во рту у тебя собралась слюна. Но даже и в таком минутном сне есть известное облегчение. В нем - бегство. Бегство! Начинаешь вдруг воспринимать все острые углы жизни как-то сглаженно, как нечто далекое; через блаженно отрешенное сознание твое свободно льются представления обо всех цветах, всех ароматах, всех звуках - представления, не связанные меж собою ничем, что помешало бы воспринимать их, - и ты в этом особом состоянии гипноза то всплываешь, то погружаешься, как водолаз, и падаешь на дно, и тогда какой-нибудь посторонний резкий звук мгновенно выносит тебя на поверхность сознания, в настоящее - к утреннему пригородному поезду, к силуэту девичьей фигуры в коридоре, а потом ко всему этому припутываются вчерашние лица, они приближаются и уплывают - вот Павел, вот лица тех, кто был у Коблицев на вечеринке, и Бацилла, и все остальные, которых свели друг с другом завод, военное время, и даже обшарпанная кофейня, где еще немножко топят; потом всплывает обрывок из Брамса, и треск шаров на бильярде, и плеск ночного ливня за бумажными шторами затемнения...
Она едет в том же поезде, ему достаточно приоткрыть, веки, глянуть сквозь щелочку, но лучше закрыть глаза, так он видит ее явственнее, совсем живую. Вот мелькнула она между стапелями, в тесных рабочих брюках, в платочке; в руке несет тигель с заклепками. Он издалека узнает ее шаги. Движутся одни ее ноги: туловище, плечи и прямая шея остаются в непостижимом покое. И все же нет и намека на неестественность в такой походке. Гляньте, говорит кто-то, как выступает! А Гонза ест ее глазами, и приходит ему на ум Настасья Филипповна из «Идиота». Точно! В ней гордая красота Настасьи, и чужие взгляды она несет на себе так, будто их не замечает. Темные, чуть, чуть раскосые глаза устремлены вперед без интереса, без удивления, будто смотрят сквозь предметы и сквозь тебя-куда-то далеко, но в них ты не найдешь высокомерия. Скорее это сдержанность. Весь день она среди людей, в грязи и грохоте фюзеляжного цеха, и все же как-то странно одинока, замкнута в невидимом кругу, в который не пускает никого, равнодушная к окружающей грубости, безучастная к сальным взглядам, которыми ее ощупывают. Ее безучастность внушает особое уважение, хотя на первых порах это свойство дразнило тех, кому незнакомо чувство неловкости. Многие из фюзеляжного цеха пытались познакомиться с ней поближе, но никто не преуспел. Эта свинья Пепек Ржига пытался назначить ей свидание. А после неудавшейся атаки презрительно сморщил свой пятачок и выразился так: «Маркиза! Цену себе набивает! А я вам говорю: шкура она. Ей подавай хахаля с деньжатами. Знаю я таких».
Доказательств такого нелепого обвинения не было, но прозвище пристало к ней. Маркиза!
Спать! Кончится эта треклятая война - зароюсь в одеяло и буду дрыхнуть три года без перерыва! Кто попробует разбудить - убью.
Хоть раз выспаться досыта! Что там все бормочет этот надоедливый старик?
Гонза повернул голову к дверям, приоткрыл свинцовые веки. Она все еще стояла в коридоре, и день уже высветлил ее лицо. Он видел, как она вынула из кармана пальто сложенную бумажку - верно, письмо, - внимательно перечитала и положила обратно. Потом вытащила смятый платок и высморкалась. Гонза невольно улыбнулся, будто застиг ее на бог весть какой слабости. Это было так трогательно-обыкновенно. Видишь, чего же в ней таинственного? Навоображал бог знает что, а она самая обыкновенная, и, может быть, к ней можно подойти, и...
Послушай, кто ты? Ты мне нравишься. Ты не такая, как все. Если б ты знала, чего только я не выдумал о тебе! Еще, пожалуй, посмеешься надо мной. Только объясни ты мне, почему я до сих пор не могу просто подойти к тебе, заговорить? Я ведь не желторотый гимназистик! Знаю ли я тебя? Могу ли я сказать, что знаю человека, если прочитал его имя на карточке, на которой отбивают час прихода и ухода, если человек этот дни и ночи у меня на глазах, но я не обменялся с ним еще ни единым словом? И для которого я до отчаяния не существую? Впрочем, с чего замечать именно меня? Чем я могу тебя заинтересовать? Лицо, каких сотни, ни красивое, ни бросающееся в глаза безобразием, обыкновенное лицо. Знаешь, а я ведь еще не слышал твоего голоса!.. Есть в тебе что-то такое, что несказанно волнует меня, притягивает и в то же время зажимает рот непонятной застенчивостью - ничего подобного я не испытывал с другими девушками. Я часто пробовал выговорить вслух твое имя: Бланка. Легкое, прозрачное имя, в нем вкус ветра. Но что я знаю о тебе? Какую-то чепуху, сплетни, грубые замечания ребят... Вот если бы ты дала мне совет... Я застенчив до дикости и порой завидую тем, кто не так чувствителен, у кого шкура потолще, которые просто не понимают, что ставят другого в неловкое положение. Эти не знают препон. Может, во мне есть какая-то дурацкая гордость и потому я боюсь поражений. В сущности, я и себя-то не знаю. О себе я знаю всего лишь несколько неинтересных и малозначительных подробностей. Зовут меня Ян, ребята чаще называют Гонзой , [1]я живу, дышу... и не знаю себя. То мне кажется, что я никакой, то - очень сложный, и если б меня заставили написать что-нибудь о самом себе, о своем характере, о том, чего ищу, - я изжевал бы от растерянности немало карандашей. Добрый я? Или злой? Гордый? Скромный? Все это есть во мне, до невозможности перемешанное, не отграниченное, не решенное. Я строящееся здание и понятия не имею, каким оно будет готовое. Труслив я? Или смел? Откуда мне знать? Бывают всякие дурацкие мечты, и порой мне кажется, что я вовсе еще и не жил, что я скорее наблюдатель, очевидец того, как живут другие, а не человек с собственной историей. Я, в сущности, только жду. А больше в этой помойке я и не могу ничего делать. Но разве ожидание - жизнь? Сомневаюсь. Жизнь будто отложена на неопределенное время. Вот после... Но хватит, поговорим о тебе! Что ты? Замужем? Любишь ли кого-нибудь? Я этого боюсь. Ты тоже одинока? Почему люди теперь так одиноки? Оттого что война? А как было до войны? Я совсем не помню. Когда эти явились, я был сопливый мальчишка, лет четырнадцати-пятнадцати, подросток с угрями на лбу. Влюблялся в лицо на экране, вид женских ног волновал меня, я думал о смерти и страстно желал, чтоб мне было уже двадцать лет, и я мечтал о том, кем я стану. Это будет грандиозно! Мир и его беды очень отдаленно затрагивали меня. И влипли мы во все это, желторотые юнцы, ткнулись носом и мыкаемся в этом бедламе, и кто-то гонит нас взашей, развеяло нас ветром по заводам протектората, по всем уголкам рейха. Что делать? Ждать? Вот после... Как это понять? Где это «после»? И в чем? В книгах, которые случай вложит в твои руки? Не знаю. В себе? Сомневаюсь. Каждый ищет по-своему, но ищем все мы, хотя большинство из нас не сознает этого и прикидывается циничными грубиянами. Выжить, выжить - так писал Карел из Эссена после очередного налета. В этом вся штука, Гонза! Если бы ты пережил такое, как я, понял бы. Только дураки да книжники-мечтатели вопрошают о смысле жизни. А в чем ему быть, смыслу-то? В воздухе, которым мы дышим, в еде, в любви, если таковая существует, в голом факте бытия... Вопросы... У тебя тоже столько вопросов? Может, я ошибаюсь, но кажется мне, все стало бы легче, умей я сблизиться с тобой. Что может найти человек, когда он один? Не нужен никому, ни для чего? И я внушаю себе, что вдвоем мы могли бы что-нибудь найти. Что-то такое, чему можно было бы верить - вероятно, нашли бы уверенность или хоть основание для того, чтобы жить. Смысл. Или я псих? Хоть бы ты посмеялась надо мной - по крайней мере заметила бы, по крайней мере я существовал бы для тебя! Почему ты всегда только молчишь? Отчего вдруг такая странная тишина?