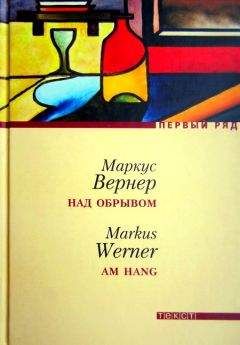— Люди любят, чтобы о них помнили… — начинает падре Бенедетто.
— Любят, чтобы легенды их возвеличивали, — поправляю его я.
— Ты разве не хочешь оставить свой след в истории, сын мой?
Так он обращается ко мне, только когда хочет позлить. Я ему не сын, тем более не сын его Церкви. Разве что бывший.
— Может, и хочу, — киваю я с улыбкой. — Но любой мой вклад должен быть бесспорным. Не подверженным кривотолкам.
Бокал опустел, и падре тянется к бутылке.
— Так вы живете ради будущего?
— Да, — говорю я подчеркнуто. — Я живу ради будущего.
— А что такое будущее, как еще не написанная история?
Падре поднимает брови в немом вопросе и подмигивает моему бокалу.
— Нет-нет, хватит. Спасибо. Мне пора. Уже поздно, а мне нужно закончить кое-какие эскизы.
— Творчество? — вопрошает падре Бенедетто. — Вот уж что бесспорно. Твоя подпись на бессмертной картине.
— Подпись можно поставить не только на бумаге, — отвечаю я. — Можно ее поставить и на небесах.
Он смеется. Я откланиваюсь.
— Приходили бы вы к мессе, — говорит он негромко.
— Бог — часть истории и дело прошлое. Мне до него нет дела. — Тут я понимаю, что, возможно, обидел священника и добавляю: — Если он существует, полагаю, и ему нет дела до меня.
— Тут вы заблуждаетесь. Богу нужен каждый из нас. Падре Бенедетто думает, что знает меня, но это не так. Если бы знал, то, скорее всего, не высказывался бы так категорично. Впрочем, не исключено — и в этом, наверное, и состоит вечная шутка Господа, — что он прав.
— Signor Farfalla! Signore! La posta![6]
Каждое утро синьора Праска выкликает меня от фонтанчика во дворе. Такой у нее ритуал. Склонность следовать заведенному порядку есть отчетливая примета старости. Мой заведенный порядок — штука временная. Я еще не заслужил роскоши, дарованной многим моим ровесникам, — права превратить свою жизнь в череду банальностей.
— Спасибо!
Каждый рабочий день, когда для меня есть почта, похож на другой. Синьора Праска выкликает меня по-итальянски, я отзываюсь по-английски, она неизменно отвечает:
— Sulla balaustrata! La posta! Sulla balaustrata, signore![7]
Я спускаюсь на один пролет, перевешиваюсь через перила балкончика на третьем этаже, вглядываюсь в темный дворик, куда солнце заглядывает лишь на полтора часа в середине дня в середине года, и вижу письма, сложенные на каменном столбике у подножия лестницы. Она всегда складывает их стопкой, самое большое внизу, самое маленькое сверху. Меньше всех, как правило, какая-нибудь открытка или письмецо в небольшом конверте: это самый яркий предмет во всей стопке, он поблескивает в темноте, будто монета или медальончик-образок, с надеждой брошенный в колодец.
Синьор Фарфалла — так она меня называет. Так зовут меня и остальные соседи. Луиджи, владелец бара на Пьяцца ди Санта-Тереза. Альфонсо, автомеханик. Красотка Клара и простушка Диндина. Галеаццо, хозяин книжной лавки. Падре Бенедетто. Они не знают моего настоящего имени, вот и зовут меня господин Мотылек. Мне это нравится.
К вящему недоумению синьоры Праски, приходящие на мое имя письма адресованы то мистеру А. Кларку, то мистеру А. Е. Кларку, то мистеру Клерку. Все это мои псевдонимы. Бывают еще письма месье Леклерку и мистеру Гиддингзу. Синьора Праска не задает мне вопросов, а если и сплетничает, то не делая выводов. Ни у кого не возникает подозрений, ведь это Италия и тут никто не лезет не в свое дело — люди привычны к византийским интригам одиноких мужчин.
Большую часть этих писем отправляю я сам: отлучаясь из города, я посылаю самому себе один-два пустых конверта или надписываю открытку, изменив почерк, будто она от родственника. У меня есть несуществующая любимая племянница, которая зовет меня Дядей и подписывается Щеночек. Я шлю пустые конверты с наклеенной маркой в страховые и туристические компании, продавцам таймшеров, издателям торговых каталогов и прочим производителям докучливой рекламы: в результате меня бомбардируют цветными буклетами со всяким бредом — как можно по дешевке выиграть машину, или поездку во Флориду, или ежегодный доход в миллион лир. Для большинства людей эта рекламная макулатура — настоящее бедствие. В моем случае она придает лжи дополнительное правдоподобие.
Почему господин Мотылек? Да очень просто. Я их рисую. Здесь считают, что так я зарабатываю на жизнь — рисуя бабочек и мотыльков.
Это очень удобное прикрытие. Окрестности городка, еще не искалеченные сельскохозяйственной химией, не изуродованные тяжелыми ногами человека, просто кишат бабочками. Есть среди них крошечные голубянки: мне очень нравится их рассматривать, мне доставляет огромное удовольствие писать их портреты. Размах их крыльев всего-то с небольшую монетку. Цвет у них переливчатый, переходящий из тона в тон, — от яркой летней небесной лазури до бледной выцветшей голубизны — в пределах всего нескольких миллиметров. На крыльях у голубянки крошечные крапинки, черно-белые ободки, а на удлиненных кончиках задних крылышек видны микроскопические хвостики, будто крошечные шипы. Точно отобразить одно из этих созданий — нелегкая задача, она требует внимания к деталям. А в деталях, в мелких подробностях вся суть моего существования. Только благодаря неустанному пристрастию к деталям я до сих пор и жив.
Чтобы добавить правдоподобия обману и отвести последние подозрения, я объяснил синьоре Праске, что Леклерк — это французский вариант фамилии Клерк (и Кларк), а Гиддингз — мой творческий псевдоним, им я подписываю свои картины.
Дабы запутать ее еще больше, я однажды намекнул, что художники часто живут под вымышленными именами, чтобы их не беспокоили: невозможно работать, объяснил я, когда тебя постоянно дергают. Это мешает сосредоточиться, от этого падает производительность, а типографы, аукционисты, редакторы и авторы требуют, чтобы работу сдавали в срок.
С тех пор меня иногда спрашивают, правда ли, что я работаю над очередной книгой. Я пожимаю плечами и говорю:
— Нет, я сейчас занят подбором иллюстраций. На будущее. Некоторые предназначены для галерей, — говорю я. Я намекаю, что мои работы покупают собиратели миниатюр и энтомологи.
В один прекрасный день мне приходит письмо, отправленное из некой южноамериканской республики. На него налеплены цветистые марки с изображением тропических бабочек, того вульгарного толка, который так по душе диктаторам. Цвета слишком кричащие, чтобы быть естественными, слишком аляповатые, чтобы быть правдоподобными, своей яркостью они напоминают ряды медалей, врученных себе любимому собственной рукой, обязательный элемент костюма любого генералиссимо.
— Ха! — воскликнула синьора Праска понимающим тоном. Потом помахала рукой.
Я заговорщицки улыбнулся в ответ и подмигнул.
Они полагают, что я делаю дизайн почтовых марок для банановых республик. Я не собираюсь рассеивать это полезное заблуждение.
Для некоторых мужчин Франция — это страна любви, где женщины податливы и прелестны — с огромными глазами, в которых светится невинная похоть, с губами, которые только и просят ласк и поцелуев. Земля там дружелюбна — мягкие неолитические всхолмья Дордони, иззубренные Пиренеи и болотистые низины Камарга, — куда хочешь, туда и поезжай. Все там пропитано теплым солнцем, вскармливающим виноградную лозу. Мужчины видят виноградник и думают об одном — как бы полежать на солнце с бутылкой бордо и с девушкой, тоже виноградной на вкус. Для женщин французы — мужчины, которые целуют руку и галантно склоняют голову, блестящие собеседники, нежные соблазнители. Не то что итальянцы, говорят они. У итальянок небритые подмышки, от них воняет чесноком, и они быстро толстеют на макаронах; итальянцы щиплют женщин за мягкие места в римских автобусах и слишком усердствуют в постели. Так утверждают ксенофобы.
Для меня Франция — страна провинциальной тоски, страна, где цветы патриотизма нужны только для того, чтобы прикрыть землю, пропитанную кровью революции, где история началась у стен Бастилии, и начали ее орды разнузданных крестьян, вооруженных рогатинами, рубивших головы всяким «превосходительствам» — именно за это самое превосходство. До революции, утверждают французы со свойственной им быстротой речи, сопровождая слова галльским пожатием плеч, которое должно пресечь всяческие возражения, у нас были только нищета и аристократия. Теперь… еще одно пожатие плеч и вздернутый подбородок, указующий на нынешнее сомнительное величие Франции. На самом-то деле они попросту обнищали духом, а в аристократы возвели политиков. В Италии все не так. В Италии жива романтика.
Мне здесь нравится. Здесь доброе вино, жаркое солнце, люди здесь в ладу со своим прошлым, но не орут о нем на каждом шагу. Женщины неспешливы и податливы в любви — по крайней мере, такова Клара, Диндина более темпераментна, — а мужчины довольны жизнью. Здесь нет нищеты духа. Каждый духовно богат. Чиновники заботятся о том, чтобы на улицах было чисто, чтобы на улицах не было пробок, чтобы поезда не опаздывали, а из кранов текла вода. Carabineri и polizia[8] борются с преступностью — по своим понятиям, — a polizia stradale[9] следит, чтобы на магистралях соблюдался скоростной режим. Налоги собирают без избыточного рвения. А граждане тем временем живут, пьют вино, зарабатывают деньги, тратят их и не мешают Земле вращаться.