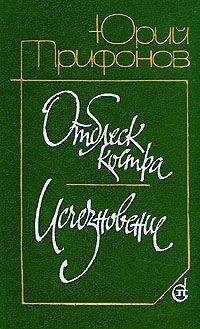Перед каждым подсудимым висела прибитая к барьеру табличка с фамилией, именем и отчеством. Перед Евгением на табличке значилось: «Трифонов Валентин Андреев».
Из 43 участников восстания 29 были осуждены и 14 оправданы. Евгений оказался одним из тех, кого суд наказал особенно строго: как несовершеннолетний, то есть как Валентин, он получил 10 лет каторги. В Сибирь его послали не сразу. Несколько месяцев просидел он в Новочеркасской военной тюрьме, откуда неудачно пытался бежать. Однажды вечером заключенные напали на надзирателей, схватывая их сзади за горло особым приемом — в уличных драках этот прием назывался «взять на грант», — перевязали, выбежали во двор. Пока поднялась тревога, часть товарищей успела перелезть через высокую стену. Евгения взяли на стене.
Через несколько лет, в 1912 году, уже из туруханской ссылки, отец написал заявление на имя енисейского губернатора с просьбой вернуть ему его настоящее имя, и такое же заявление сделал брат, отбывавший тогда каторгу в Тобольском централе. Заявление отца послужило началом запутаннейшей казенной переписки, длившейся несколько лет. Работая в Архиве Октябрьской революции, я наткнулся на этот памятник кропотливой и довольно тупой полицейской мысли, запечатленной на пятидесяти листах «Дела о казаке Евгении Трифонове». В переписку кроме департамента полиции, министерства юстиции, енисейского и тобольского губернаторов, ростовского градоначальника были втянуты еще жандармские управления нескольких городов, наказной атаман Войска Донского, частные лица, родственники, бывшие каторжане, учителя Майкопского технического и Новочеркасского атаманского училищ, и все это для того, чтобы определить, был ли злой умысел в перемене имен или же была чистая случайность. Многолетние потуги не привели ни к чему: злой умысел так и не обнаружился. В 1916 году братьям было разрешено именоваться их собственными именами.
Я разбирал эту груду документов, аккуратно подшитых, с датами, гербами, номерами входящих и исходящих, с подписями, имевшими когда-то могущественную силу, а сейчас превратившимися в едва заметный, полустершийся чирк карандаша, и думал: какое количество бумажек окружает каждого из нас! Мы не догадываемся, что находимся в плену у бумажек. Они, невидимые, идут по нашим следам, им нет числа, нет сроков, нет смерти. Они — как загробные тени нашего земного существования, ведь мы умираем, а они остаются. Нет ни Евгения, ни Валентина, ни губернаторов, ни делопроизводителей, ни писцов, ни тюремщиков, никого, есть только бумажки. Они зачем-то нужны. Чего-то ждут. Вот я взял эту старую папку, которую никто не трогал лет пятьдесят, кроме архивариуса, оставившего метку инвентаризации в 1933 году, полистал ее, почитал и отдал обратно; и снова никто не притронется к ней лет пятьдесят, сто, триста. Господи, через триста лет бумажки расплодятся так, что вытеснят человека с земли! Будут созданы, вероятно, огромные архивные территории, вроде национальных парков, а потом и целые архивные города, потом такие же города для бумажек будут устроены под землей, а когда человечество переселится на другие миры, все помещение нашей старой планеты будет превращено в один гигантский архив!
Между прочим, более всего в папке «Дело о казаке Евгении Трифонове» меня интересовали фотографии отца и дяди. Они должны были там быть. Об этом говорится почти в каждой бумажке. Но их не было. Кому-то они понадобились, и, может быть, именно в том году, каким помечена инвентаризация. А может быть, чуть раньше или чуть позже. Это никому не известно. Никто не мог сказать мне ничего определенного. Бумажки живут своей скрытной медленной жизнью, рассчитанной на тысячелетия, как камни, как ледники.
В ссылках отец провел лучшие годы: с семнадцатилетнего возраста до двадцати шести лет. Об этих годах он рассказывал мало. Иногда в разговоре с матерью скажет полушутливо: «Кто из нас был в ссылке: ты или я?», и это имело иронический смысл и было как бы требованием неких домашних поблажек за счет тяжелого прошлого. Для нас, детей, шутливость таких разговоров была очевидна, и потому представление об отцовских ссылках создалось несколько несерьезное. Ну, ссылался четыре раза, ну, бежал — это, наверно, очень интересно, романтично. Снова прошли долгие годы, прежде чем я кое-что узнал об отцовских ссылках тех лет, более полувека назад.
Романтичного в них было немного. Зато много было стужи, снега, бездомности, голодания, избиений солдатами (у отца была выбита кость в груди от удара прикладом), были разговоры изверившихся, были болезни, предательства, была смерть друзей в охолодавших станках под полярным небом — и была молодость, отчаянно боровшаяся со всем этим.
После того как в «Знамени» напечатали в первоначальном варианте этот очерк, стали откликаться люди, знавшие В.Трифонова в разные годы. Откликнулись двое, которые знали его по ссылке. Большинство-то умерло: прошло все-таки пятьдесят с лишком лет. Но двое выжили, два глубоких старика: Николай Никандрович Накоряков, человек известный, делегат Лондонского съезда, бывший директор Госиздата, и Борис Евгеньевич Шалаев, по профессии инженер-теплотехник, живущий сейчас в Свердловске, человек тоже с революционным прошлым. Как-то дома зазвонил телефон, и я услышал высокий старческий голос: «А я вашего батюшку знал по тюменской ссылке 1907 года. Мы его звали Тришкой. Он немного прихрамывал».
Я не слышал, чтобы отец когда-нибудь прихрамывал. Но, наверно, это так и было.
Н.Н.Накоряков познакомился с ним сразу же после того, как отец бежал из Тобольска, из административной ссылки, в Тюмень. Отец отпустил бороду, чтобы изменить лицо. Возможно, он и прихрамывал тогда для маскировки. Я приехал к Николаю Никандровичу домой, в Мансуровский переулок, однако старичок — с гаснущим зрением, но с необыкновенно ясным, четким умом — немногое смог добавить к тому, что сказал по телефону. С тех пор, с 1907 года, он не видел отца ни разу. В его памяти отец остался двадцатилетним юношей, Тришкой, вдвое более молодым, чем я. Поэтому он сказал разочарованно: «Вы на своего отца не походите». Он вспомнил еще, что отец работал в Тюмени слесарем на заводе Машарова.
От Бориса Евгеньевича Шалаева я получил много писем и его очень интересные воспоминания «Из прошлого рядового человека»: о пермском подполье, о тобольской ссылке и о Тюмени, где он познакомился с В.Трифоновым. Судьба Б.Шалаева была и в самом деле судьбой рядового русского человека начала столетия: уральская глухомань, какая-то Нижняя Салда, семья горнозаводского крестьянина, выбившегося в лесники, учение в реальном, жадность к книгам, ко всем вперемешку, но непременно к «серьезным», юношеское философствование зимними вечерами у печки, и вдруг сразу — бомбы, тайная возня со взрывателями, знакомство со Свердловым, боевая дружина, выдача провокатором Папочкиным, арест и «башня» Пермской тюрьмы. Осенью 1907 года Б.Шалаев был выслан в административную ссылку в Тобольскую губернию. Он был старше отца на два года.
Путь из Тюмени в Тобольск — 250 верст этапом, — описанный Шалаевым в его воспоминаниях, проделал дважды и отец. «Скорость этапа в среднем 25—30 верст в сутки. Дневки через трое суток. Наконец выходим из Тюмени. Конвойные кричат, замахиваются прикладами. Строгость отменная! Выходим за город. Отойдя версты три — команда: „Стой! Старосту политических к начальнику конвоя!“ Разговор короткий: „Говори, за каких людей ручаешься, что не убегут, и каким доверять нельзя. За кого поручишься — ходи как тебе надо. Только в деревне, чуть подыму тревогу, мигом являйся, не подводи“. Шли почти как на воле. Почему же такая неправдоподобная, кажется, свобода? Очень просто! Не зная, куда девать невероятно умножившиеся после пятого года неблагонадежные элементы в войсках, правительство вынуждено было, в целях изоляции, массами засылать неблагонадежных в самые медвежьи углы».
О том же вспоминал В.Трифонов: однажды гнали их по этапу — возможно, по тому же самому, на Тобольск, — и конвойные попались на редкость хорошие ребята, чем могли, старались облегчить путь. Ссыльные решили между собой: не бежать с дороги, не подводить конвой. Так и дошли до места, а уж оттуда бежали.
Тюменский конвой шел до полпути, до села Иевлево, где долина реки Туры выходила на Тобол. Здесь этапников принимал тобольский конвой. А в Тобольске еще приходилось ждать днями, неделями парохода «на низ», то есть на север по Оби: кому куда было назначено поселение.
Тем же пароходом при некоторой отваге и счастливом стечении обстоятельств можно было вернуться «с низу» в Тобольск: так вернулся Б.Шалаев, раздобывший подложный паспорт. Таким же способом годом раньше вернулся в Тобольск В.Трифонов, откуда проехал на Урал (работал там по обучению боевых дружин, используя свой ростовский опыт), а после Урала перебрался в родной Ростов, где и был схвачен. Само по себе бегство из административной ссылки было делом нетрудным. Главная трудность — не попасться потом. Беглые поселенцы, пойманные за пределами Сибири, наказывались строго: до трех лет каторжных работ.