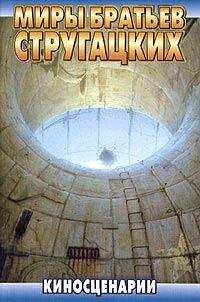Лохматая сучка с репюхами в штанах, прихрамывая, пробежала с настолько деловым видом, будто опаздывала на важнейшее собачье заседание, где решался вопрос, запускать ли охотникам собак зимой в избушки, и если да, то начиная с какого градуса. Еле узнаеваемый в усохшем пенсионере остяк по кличке Пушкин брел с похмелюги и было рыпнулся к новому приезжему с предложением мгновенных и неограниченных пушных и рыбных услуг, но узнав Прокопича, открыл рот и восхищенно застыл едва не на неделю.
К десяти завязался ветерок, тучи раздуло и вода из мокрого дерева стала уходить, сжимаясь и собираясь пятнами по пепельному полю, и буквально за час небо вытянуло всю влагу в мутную дымку и унесло за горизонт.
Остановился Прокопич у Володьки, тут же со сказочной строгостью отправившего его в баню (“Тоже Баба-Яга!”). Володька нагонял пар, пока тот не достиг такой обжигающей силы, что казалось, из-под веника идут ледяные сквозняки по всем закоулкам души и тела. До поры это не приносило ничего, кроме сладкого зуда, но вдруг после одного гейзерно-долгого выброса пара от жгучего удара веника невыносимо зачесалась спина и каждый его охлест начал приносить сумасшедшее наслаждение, будто меж телом и веником вился невидимый гнус и его припечатывали распаренной березой к спине, как мухобойкой. Прокопич выскочил из бани и, взревев, вывалил на себя ведро стылой осенней воды, почерпнув из дождевой бочки.
Он сел на крыльцо. Сердце стучало ровно. Выжав лишнее, оно поджалось и окрепло и, целиком взятое в оборот, впервые за многие годы не успевало думать.
Забрезжил утраченный натяг жизни, без которого происходящее замирало и, объединившись с Прокопичем в одно целое, окрашивалось в цвет его тоски. Как во всяком человеке, она, будто ветер, могла дуть сутками, потихая лишь, когда происходящее отрывалось и шло хотя бы на полкорпуса впереди.
Задувала с ночи и к полудню катала душу свинцовым валом, отливая на солнце, и он знал, что так и будет, потому что слишком мало времени, чтобы правильно перезаделать все троса жизни, в которой и всего-то два берега: окружающие люди да великая плоть Земли, а все меж ними залито трудовым Енисеем родного дела и мечтой о доме, без которого погибель. Но даже если все и как надо сделано, то все равно найдет дырку свербящий ветерок и надует положенную недостачу счастья.
Сидели за бутылочкой – плотный, раздавшийся Прокопич и худощавый бородатый Володька, с розово поблескивающим тонким, чуть шишковатым носом. Володька он был только для Прокопича, а остальные звали
Степанычем этого трудного мужика, которого ничего не интересовало, кроме его тайги и куска Енисея, где он жил навечно, как пристойная рыбина. Казалось, полста лет бил он в одну точку, но только эта точка была таких размеров, что ее ускользающее яблочко сводило воедино все жизненные прицелы. Охотничий участок Прокопич, уехав, отдал Володьке, и тот прибрал его лучший кусок, куда теперь Прокопич и собирался.
Пришли человека четыре близких, да еще забрел Борька, осеребрившийся, ссутулившийся и как две капли воды похожий на своего покойного отца, знаменитого механика. Его возврат в образе Борьки давал ощущение и горькой остойчивости жизни, и ее вечного размена, потому что Борька в подметки не годился отцу.
Мужики обрадовались Прокопичу по-человечески просто, в объезд его раздумий и не требуя объяснений. Прокопич, в себе самом только и ценивший причастность к Енисею, не догадывался, что многие его товарищи, особенно приехавшие позже, эту жизнь и открыли через него и ему подобных и поэтому не сомневались, что Енисей в таких не кончается.
Всю неделю до отъезда в тайгу Прокопич готовился сам и помогал
Володьке прибираться к зиме. Досняли картошку, вывезли лодки, оставив только деревяшку, скатали бревна, испилили и перекололи остатки дров. Погода стояла солнечная. Прозрачный северок остужал потеющее тело, и жара сколько приходило, столько и уходило.
Подчищенный сухой огород с одинокими копешками ботвы, трактор со слитой водой, перевернутая бочка – все оцепенело, обещая, что снегу хорошо будет ложиться.
Отъезд в тайгу представлялся огромными воротами, которые так окрепли и отстоялись в воображении, что казалось, когда он войдет в них по-настоящему, сотрясут все его существо до самых глубин, но шаг за шагом вдавался Прокопич в будущее, и ничего не происходило несмотря на то, что он уже сидел в деревянной лодке на горе груза, Володька ворочал румпель и мимо набирал ход галечный берег с осиротелой кучкой провожающих.
Стык должен был пролегать между рывком шнура и первыми проворотами винта, но ничего не сотрясалось ни внутри, ни снаружи, и он близоруко озирался, чтобы не прозевать долгожданную дверь, а она стояла так близко, что он был ее частью, а она таилась и ждала, когда он скроется, чтобы спокойно и навсегда затвердеть.
Не было никаких ворот, вообще никаких сооружений на входе в постепенное и упругое настоящее, и даже наоборот, вода казалась совсем плоской, и Прокопич как-то особенно голо укрывался от ветерка, обтрепывающего груз, но о том, что перевал произошел, говорило ощущение нового открытия. Оно состояло в том, что главным потрясением, ожидавшим его столько лет, была полная простота произошедшего.
Вода Феофанихи, впадая в Енисей, долго текла вдоль берега, не смешиваясь, и была темно-синей, а Енисей казался рядом с ней грязно-мутным и разбавленным. В эту горную воду они въехали тоже постепенно и незаметно и принадлежали Феофанихе с упреждением. В устье глядел с берегов частокол карандашно-острых, будто из-под точилки, пихт. За поворотом в галечном перекате мотор выворачивал прозрачную воду как плугом, и под ее стеклянной кожей проворно и длинно вился за винтом пенный смерч. Через пять верст встали по берегам кедровые увалы, через пятьдесят река подсушилась и ощерилась камнями, а через сто восстала грозовой синью над ней горная даль.
Русло сжалось, и они долго ехали сквозь зубчатое нагроможднение ржавых кирпичей и кубов, и, пока поднимали порог, хребты настороженно нависали, а когда прошли верхний слив, успокоенно расступились и стали поодаль.
Отвезя друга на базу, Володька оставил его одного.
1
Как ни тепло и понятно было Прокопичу с Зинаидой Тимофеевной, просторы брошенной жизни заявляли о себе неумолимо, но едва попал он в ту обстановку, о которой тосковал, как стронулось и завращалось неподъемное колесо памяти и он стал принадлежать себе еще меньше.
Все самое главное протекало для него в этой тайге, здесь сколачивал он окалину людских отношений, выстаивал мутную взвесь событий до зимней ясности, здесь тосковал по дому, маялся разладом с Людой, виной перед сыном и здесь горел любовью, когда появилась в его жизни
Наталья. Мысы с камнями хранили каждую складку его лица, а теперь, намолчавшись, заговорили без спросу, и едва напомнил ствол листвени изгиб женского тела, как душа с детской послушностью пустилась в путь, волоча Прокопича по старицам прошлого. К вечеру обострились запахи дыма, тайги, горькой травы на жухлых берегах, и отверзлось, насколько привязан он к этому миру и насколько велика ноша этой привязи.
Под нарами валялась баночка от Андрюшиного детского питания, просроченный ящик которого был отдан Прокопичу в тайгу, и они в
Володькой даже пытались им закусывать.
Острые на новое и производительное охотники давно уже обезжиривали соболей женскими колготками. Отрезали нижнюю часть, и получался капроновый носок, который надевался на руку. Такой варежкой и одиралась жирная и ускользающая мездра – капрон оказывался хватче остального. Колготки увозились в тайгу с запасом, служа предметом шуточек: дескать, барахляных этих девок вытрясаем, а колготки в дело запускаем. На гвозде висел увядший слепок Натальиной ступни.
Воистину сосуд человек и послушно наполняется окружающим, а когда кончается заряд привычного, мается неприкаянный и открытый ветрам, пока в извечной работе не соединится с жизнью в новой застройке.
Однако ничего не рушится в сердце, а только прячется, оберегая, поскольку нельзя одновременно идти по двум бортам реки, не порвав душу.
Но в какой цвет не окрашивались река и тайга в то или иное время, разговор Прокопича с этими строгими собеседниками никак не был связан со сменой женщин или другими потерями и тянул высоко и ровно, пока остальная жизнь его же грешной тенью взмывала на вершины и сбегала в ущелья. И обе эти половины были равно важны и несоединимы, и, пока крепла тайга осенью и свежела первым снегом, стыл Прокопич на семи ветрах памяти, и одному небу известно, сколь кубов тоски и отчаянья прогнало сквозь его душу в те дни в ту и другую сторону.
2
В пору, когда самыми синими были великие дали, что влекли тысячи людей расширять поля своего применения, казалось, нельзя жить под этой синевой и не зарядиться ею, но выходило, что можно да еще как.