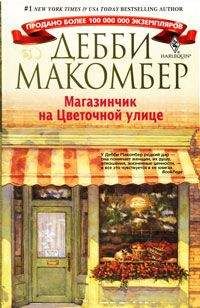И не столь важно, на какой ветке ты сидишь. В Ришикеше сидят, в основном, под деревом, в его сени.
Кто сидит? Это может быть баба. Или садху. Или свами. К дереву это прямого отношения не имеет. Все они, как правило, практикуют йогу. В здешних краях по преимуществу тантру (разумеется, не в нашем, зачастую вульгарном, понимании).
Баба – послушник духа, скиталец-аскет. Обычно он в красных одеждах, но в мутноватых, слегка приглушенных тонах.
Садху – тот же баба, но "чакрой" повыше. Садху уже может учить – не обязан, но может. Его цвет – просветленно оранжевый, чистый, сквозной.
Свами – белый, он может иметь школу, быть настоятелем ашрама, или жить в стороне – сам по себе.
Конечно, и баба может завернуться в белое (и это встречается довольно часто), но каждый скажет, чуть приглядевшись: ба, баба!
Другая энергия, шаг, взгляд.
Деньги и те, кто их делает, по-прежнему занимают низшую ступень общественного уважения. Высшую – по-прежнему – дух и те, кто его творит. Потому и нет недостатка в бесплатных клиниках и ашрамах, где любой – кто бы он ни был – получит и помощь, и кров, и харч.
Нищих – не меньше деревьев. Один – с надменной осанкой и в космах седых – подошел и, не глядя в лицо, а куда-то поверх и чуть вбок, как король, отчеканил:
– Пять рупий. На мыло. Я требую.
Лир! Я дал десять. Он взял не взглянув. Рот поджал, отошел.
За день до поездки к истоку Ганга я решил прогуляться в ближайшее ущелье в надежде увидеть дикого слона. У местных жителей бытует, как мне кажется, предубежденье, что лучше встретиться с тигром или с кем угодно, чем с этим роторным шагающим мирозданием.
Возвращался я, когда уже начало смеркаться. Слонов не было, хотя то и дело натыкался на еще не застывшие глыбы помета (мой ялтинский друг выкрадывал такие блины по ночам из местного цирка и унавоживал свой огород; одного слоновьевого сброса хватало на все его сотки).
Но видел: нежно-карего буйвола с болотными цаплями на спине, он лежал на топкой поляне, со скептичным безразличием пожевывая каучуковыми губами.
Еще: взбалмашного петуха, похожего на наших декоративных; он метался между деревьями взвинченными зигзагами с шипящим свистом, как бракованая петарда.
Потом: скользящий – как на веревке – воротничок мангуста.
И: олененок с фаюмскими глазами на лице и бежевой в белых ноликах сорочке – фланелевой.
И вся округа – в павлинах, самках, сидящих на ветвях, кричащих, как вакханки, вверх, заплющив очи. А герои, развернув хвосты, елозят грудью по земле под ними.
И, обернувшись: веер нефти в солнечном луче – последнем, смерклось.
Я был уже рядом с дорогой. Тропа вильнула, под ногами – павлиньи перья; справа в кусте, на весу, мерцало мертвое павлинье тело с текущей к земле шеей и маленькой литой головкой в короне.
Вынув фотоаппарат, я приблизился; вспышка – и что-то дернулось рядом с моей ступней. Я глянул вниз и обмер: двухметровый ящер, чуть улыбаясь, дышал мне в щиколотку, глядя снизу немигающим взглядом.
Городок встретил роеньем огней, ежевечерней толчеей речи, запахов, красок. Древесный старец в серебристых водорослях волос сидел у реки, привалившись к валуну, торчащему из песка, и что-то тихо вещал в микрофон, облокотившись на усилитель. Слушавшие его сидели по одному во тьме меж остывающими каменюгами.
У крайней к лесу харчевни уже собирались нищие и обезьяны. Они рассаживались амфитеатром: слева от двери – всегда – обезьяны, справа – люди. После закрытия хозяин вынесет им оставшуюся еду.
Самки волнуются, нервно перекидывая младенцев из одной руки в другую, не глядя; взгляд устремлен на дверь. Сутулый самец стоит чуть впереди, скрестив ладони у гениталий. Еда! Первые подходят люди, берут; обезьяны зорко вглядываются – кто и сколько. Если кто-нибудь взял лишнее, они поднимают визг, лай, скалят зубы, заламывают руки со сжатыми кулаками. И если тот замешкается вернуть излишек – срываются с места, окружают его и, вырвав еду из рук, теснят к лесу. И возвращаются, вытянув губы совочком и покачивая головами".
Первая порция была готова к отправке. Наутро я сходил на почту и, выслав, позвонил. Журнал, похоже, был на грани закрытия. Да, сказал редактор, до конца месяца, а дальше – никаких гарантий.
Повесив трубку, я неожиданно вздохнул свободней. По крайней мере – от обязательств.
На следующий день мы отправились в Гималаи к истоку Ганга.
Я не знал, что в ту зыбкую ночь перед вылетом в Индию между нами, кратко забывшимися во сне, легла смерть и, повернувшись лицом к
Ксении, назвала ее день: восьмой.
Это и был восьмой. Она нервничала. Все шло через пень-колоду. В джипе на девятерых я был семнадцатым, с краю. То есть сбоку от джипа, будто на яхте, откинувшись от борта. Дорога – на многих участках не шире колес – вилась серпантином над мглистыми пропастями. Повороты – градусов до трехсот. Машины, сближаясь вслепую, сигналят и, не сбавляя скорость, закладывают вираж и – доля секунды – удар? Нет, стоим. Между бамперами не протиснуть и пальца.
И начинается умонепостижимое – этот медленный танец разъезда двух джипов, где каждый – одним бортом прижался к скале, а другим – над обрывом. Шоферы – как богомолы – рука на руле, другая приподнята, согнута в локте. И не шелохнутся. Осанка. И смотрят: глаз в глаз. И
– неуловимо ресничные жесты друг другу. И – движутся. Но на дорогу не глядя. На слух!
От Ришикеша до истока около 250 км – день езды со сменой джипа в
Уттаркаши. Оттуда дорога еще круче. На рыночной площади, в этом адском вареве машин и людей, я на миг зазевался и, вскрикнув от боли, еще успел отскочить в сторону: белый "Амбассадор", тихо катившийся вниз без водителя, ткнулся задним бампером мне в колено.
Ксения настаивала на немедленном возвращеньи. Какие тропы, какие ледники с такой ногой, – нервничала она, глядя как-то вниз и в сторону от меня. Я пританцовывал, пытаясь отвлечь ее от позора.
Решили: если не трещина, не перелом, то – к истоку. Она промолчала.
Допотопный рентген был найден в картонном домике в конце узкой улочки, выходящей на пустырь. В течение получаса брешь в стене была залатана и недостающая дверь навешена. Рентген делал мальчик лет девяти на вид.
Ушиб.
Шоферы отказывались наотрез – на ночь глядя. Уговорил на 30 км по пути – до ущелья "Горячая весна".
Только когда он высадил нас и, развернувшись, исчез, мы поняли, почему он с такой легкостью согласился нас подбросить. До оазиса оставалось едва ли не столько же – но уже по взвившейся от земли дороге. А это селенье, точнее – гноящаяся корочка по сторонам от надреза дороги, так же звалось "Горячая весна".
Безжизненные, чуть сковырнутые струпья построек. Шрам дороги, как бы продавленной заржавленным тесаком и присыпанный теплой золой по-живому. Утлый слезящийся свет. Без ашрамов. Ущелье, в которое солнце косит лишь часок.
Семиколенные катакомбы дома, по пояс выпростанного из земли, безмолвной и голой, такой же, как этот моложавый старик, ведущий нас по его галереям, лепящимся к скале над пропастью.
Майка на нем – как продырявленный воздух над полем после стихнувшей битвы.
Впереди он, за ним Ксения с ладонью на мутящемся животе, чуть согнувшись от резей, и за красным светофором ее рюкзака – я, полутороногий.
Комната. Лысая лампа с мигающим светом на жилистом шнуре из вспоротого потолка. Мятые глинобитные стены. Косо припавшая к склизкому полу кровать, без белья, с прожженной дырой в полосатом матраце. Дверь, поскользнувшаяся в петле, подергивающаяся, полуживая.
За ней – выход, скользящий к пропасти, без огражденья.
На кромке – будка туалета с боковым, на уровне груди, вентильным краном для душа. Двери нет, в будке – человек в одежде, на корточках, обняв голову, под открытым краном.
Ксения распластана на кровати, лицом в матрац, излучиной, у дыры.
На стене – насекомое, похожее на раздавленный нежно-красный куст; выплетается из себя, прорастая.
Темнеет. Лампа мигает, как глухонемой, все настойчивей. К выходу, которого нет.
Чувство такое, будто отсюда не выбраться. Никогда. Все, как мокрая скользкая глина, плывет. Под ногой, под рукой, нежно-красная, под хрусталиком глаза, под плывущей кроватью во вспышках икающей лампы, под Ксенией, в ней, между нами, во мне.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко, – бормотал я, выхрамывая из катакомб на дорогу – пустынную, мертвую. Да и ей ведь не больше, чем на ушко, на одно только слово. Ты…
И топорщится нить, препираясь, и мигающий свет, и ни пальцев, ни губ. На игольное только ушко.
Нельзя, – бессмысленно повторял я, вглядываясь в смеркающийся горизонт дороги, – нельзя, – этому глинобитному небу, – нельзя, – этому глиняному ребенку в груди, – нельзя так…
Ангел, а кто ж еще, шел по дороге. Ангел, закутанный в хлам машины.
И подобрал нас.
Ласточкино гнездо ашрама. Во внутреннем дворике – два бассейна: мужской и женский, наполненных целебным кипятком, текущим из расселины в скале. И тишь. И тонкий полумесяц над ашрамом.