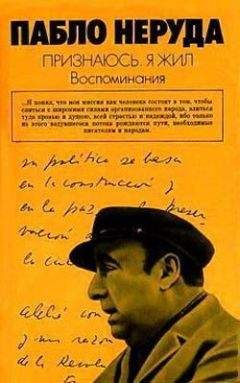Виктор Соколюк
Некоторые писатели — так бывало в древности, бывает и теперь, — и великие, и малые, имеют обыкновение приписывать свои произведения более знаменитым, а то и просто вымышленным собратьям.
Вот и я предлагаю сегодня историю Пенелопы[3], написанную будто бы собственной рукой царицы Итаки и Добродетели.
Может возникнуть сомнение: как могла Пенелопа написать свою историю, если ее не было на свете? И самый трудный вопрос: каким образом она ее писала, если в то время еще не было письменности?
Однако поклонников старины и истинных патриотов такие пустяки не смущают. Они будут рвать на себе одежды, вопя, что я глумлюсь над памятью Идеальной женщины и предательски шельмую «великое национальное сокровище», а на самом деле — просто тень.
Если же эти доброжелатели принимают сказку за быль, то почему бы и мне не сделать сказку былью? И если они, историографы, мифологизируют историю, то почему бы и мне, писателю-фантасту, не превратить мифологию в историю?
Впрочем, они имеют полное право негодовать. Только не раскрывают истинной причины своего негодования. Они знают, что дела, мысли и жизнь Пенелопы — выдумка. Однако ее поступки, мысли и жизнь — это, так или иначе, мысли и поступки всех господ, сидящих на шее у своих народов, как бы они ни назывались и какие бы времена ни оскверняли своим присутствием. Тебе можно, господин, в течение пяти лет четырежды не без выгоды предать свой народ четырем захватчикам. Но упаси боже хоть раз предать Миф!
Должен заметить, что между двумя великими гомеровскими эпосами и тем, что рассказывает в своем дневнике Пенелопа, — множество расхождений. У Гомера, например, говорится, что, отправляясь в путь, Одиссей оставил Телемаха грудным младенцем. А его мать пишет, что ему было уже около пяти лет. У Гомера Одиссей снарядил и повел в поход двенадцать кораблей. Жена же его утверждает, будто кораблей было вдвое больше. Иначе и быть не могло. Если уж Мегес, царек Петаласа, внук Авгия (только ли у него был навоз?) взял с собою сорок кораблей, то как мог великий Одиссей, власть которого распространялась почти на все Ионические острова и большую часть Румелии, взять с собою только двенадцать? Он был достаточно умен, чтобы сообразить: чем больше кораблей у него будет, тем больше добычи ему достанется.
У Гомера говорится, что Одиссей скитался на чужбине двадцать лет и, вернувшись, убил женихов Пенелопы. «Дневник» же охватывает не более двенадцати лет. И в нем вообще не говорится, вернулся ли Одиссей когда-нибудь. В то же время в «Дневнике» сказано, что на Итаку явился какой-то лже-Одиссей, который не стал убивать женихов, а поладил с ними и женился на «вдове».
По преданию, однажды на Итаку приехал внебрачный сын Одиссея и волшебницы Кирки — Телегон. Он убил своего отца и женился на Пенелопе. Случай не такой уж необычный в жизни «сверхчеловеков». Но в книге об этом нет ни слова — возможно, Пенелопа престо не успела об этом написать.
«Дневник» Пенелопы — скорее ее исповедь. В нем она называет все своими именами. А это как раз и свидетельствует о том, что она не имела намерения публиковать этот свой «духовный вклад» в героическую культуру того времени. Если же я и предаю его теперь широкой огласке и предлагаю своему народу, многострадальному и многоопытному, пусть простит мне священная тень нашей великой Госпожи и Повелительницы!
Первое апреля! Как во сне. Не верится. И все-таки он действительно уехал. Только что. У меня все еще шумит в голове, и кажется, будто остров вертится, как мельничный жернов. Уехал! Да помогут мне боги и прежде всего — богиня Добродетели.
Вот уже целый час сижу я с гусиным пером в руке. Чернила десять раз высыхали на его кончике. Никогда прежде я этим не занималась. Писать? Не писать? О чем? И как?
Я убита горем и опустошена. Для собственного утешения и чтобы хоть как-то заполнить свою жизнь, буду вести эти записи. Стану ли писать регулярно? Да, я их закончу! Но прочту ли их когда-нибудь Одиссею? Уф! Этой болезнью я заразилась от него: делить ничто на множество частей!
С сегодняшнего дня передо мною раскрывается новый мир. Творцом этого мира и его вождем буду я одна. Писать-то каждый может, действовать куда труднее.
Оставил он меня, молодую женщину, с капризным ребенком на руках. И даже не поцеловал, чтобы не показать-де слабость перед низшими. Да он и дома меня никогда не целовал! Всегда прямехонько к делу. Стоя на носу отчаливающего корабля, махнул мне своей волосатой ручищей, отвернувшись в другую сторону. Кто-кто, а уж он-то знает женщин! Высокий и черный, словно каменные дубы на горе Петалейко, босой, с голыми руками, он заполнял собою небо и морской простор. Казалось, будто небесный купол вместе с солнцем и духами держится на его мощной шее! Он весь утопал в рыжей бороде и нестриженых волосах, в густых бровях. А громовые раскаты голоса вырывались из его груди, подобно звону меди из пещеры Корибантов.
Его называли «грозой людей». Но особенно страшным был он сегодня, когда его обнимало и уносило с собою великое солнце.
О Весна, никогда еще не была ты столь сладостной. Даже в тот день, когда я впервые сказала ему «да», а он так стиснул мою девичью ручку своей лапищей, что я вскрикнула от боли! И никогда прежде не горели так мои щеки, не подгибались колени, как сегодня, когда он не прикоснулся ко мне, не поговорил со мной, даже не взглянул на меня!
Благоухали в садах и на изгородях гиацинты и душистый горошек, а на обрыве — сосны, бессмертники, чабрец и душица. Благоухало море, когда его волны вскипали под веслами и килями кораблей. Благоухали морские водоросли и песок, вздымаемые тросами и цепями. Благоухали новые корабли смолой, дегтем и свежей краской. И все же более опьяняюще благоухали в моей памяти его потные ножищи, запах его любви!
Первосвященник закончил освящение и окропил все двадцать четыре корабля, а те подняли якоря и распустили паруса — белые, красные, синие, — суша, море и воздух загудели от радостных песен воинов, звучавших на местных наречиях (итакийском, кефаллинийском, закинфском, румелийском, левкадском), от свирелей, труб и щитов, в которые бешено колотили копьями, чтобы заглушить вопли жен, плач детей и стоны матерей.
А когда корабли все разом тронулись от причалов, казалось, будто они тащат за собою Итаку, привязанную, как фелюга, канатами к их кормам. Чайки радостно кружились в вышине и с пронзительным криком стрелою падали в воду за рыбьими головами и кусками хлеба — их бросали с борта пьяные воины и моряки, которые сразу же беспечно накинулись на еду и выпивку. А гордый Одиссей неподвижно возвышался на носу корабля, огромный, бессмертный и прекрасный, как Идея или как стоящий на задних ногах осел. Эанту кажется, что только он обладает даром быть ослом по молодечеству и упрямству: не отступать перед дубинами и камнями. Мой Одиссей такой же. И даже превосходит его. Еще бы с десяток таких царей-ослов, и Троянская крепость пала бы не через десять лет (так принято говорить; типун мне на язык!), а через десять дней. И не от оружия, а под ударами копыт!
Утром следующего дня.
Как это я забыла о них! Жаль! Я была просто не в себе! Когда сегодня утром я увидела их, то очень огорчилась!.. Вчера, только он уехал, я вернулась во дворец расстроенная и велела опустить жалюзи на дверях и окнах своей комнаты; забрать с балкона и с подоконников горшки с геранью и базиликом; завесить тюлем зеркала; выгнать Фемия — его песни нам больше не нужны; собрать собак и отправить их к Эвмею на далекую скалу, где растут дикие груши. Все безмолвно, мрачно и уныло вокруг меня и во мне. Не хочу ни видеть, ни слышать никого. Хочу только думать о своем милом. И о самой себе.
Бросившись ничком на кровать, я так сильно зажала ладонями глаза, что даже искры посыпались. Как мне хотелось заплакать! Но я крепилась: боялась, как бы не покраснели глаза и не испортилась кожа, такая бархатистая, что, когда к ней прикасаешься, собственная рука кажется чужой.
Но вот сегодня утром, только первые лучи Феба проникли сквозь жалюзи и, как золотые иглы в мясо, вонзились прямо в них, я наконец увидела их — рога!..
Оленьи, могучие, каждая ветвь — аршин. Я собиралась преподнести их ему на память, чтобы он надевал их в бою и на танцах: в бою — чтобы пугать врагов, на танцах — чтобы другие женщины завидовали мне! Ни у кого не было бы рогов длиннее, чем у него. А теперь и Менелай, и Агамемнон, и все другие уважающие себя доблестные цари будут носить рога, и только у Одиссея их не будет! И в этом будут винить меня. Это невыносимо. Да помогут ему великие боги, и пусть одолжат ему Зевс свои козлиные, а Дионис — свои бычьи.
Перед тем как подарить ему их, когда он вернется, я их позолочу!
Третий день уже я сижу взаперти, в темноте и тишине. Ничего не ем и не пью. Чувствую приятное облегчение и желание потянуться. Только немного шумит в ушах, но сердце бьется ровнее. Снова звучит во мне голос Природы! Слышу, как моя верная Эвриклея с плачем стучится в дверь. Я не отпираю. Старый Лаэрт спрашивает ее, что со мною, но ответа не слышит: он глухой.