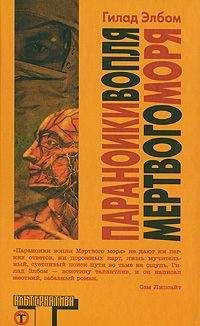— Не веришь?
— Я ни во что не верю, — качает головой Иммануэль Себастьян
— И даже в Бога?
— Я ничего против Бога не имею. Я просто не верю, что он существует.
— А почему нет?
— Я же сказал: я ни во что не верю.
— Как так?
— НСВ, — шепчет он.
— Чего?
— У меня НСВ, — говорит Иммануэль Себастьян, морща лоб и прищуривая глаза. — Нарушение Способности Верить.
— Что означает что?
— Что означает, что я неспособен верить. У меня нарушен механизм веры. Я не могу верить.
— Не можешь верить во что?
— Ни во что.
— Но ты должен верить хоть во что-то.
— Я бы с радостью, — вздыхает он, — но не могу. Я ни во что не верю.
— Вообще ни во что?
— Вообще ни во что.
Звонит телефон. Я встаю с дивана и иду на пост сиделки.
— Плюнь на этот дурацкий челнок, — шепчет Кармель, — мы вчера здорово провели время, правда?
— О да. Мне нравится Марлоу.
— Мы как-нибудь должны сделать это еще раз.
— Точно. Я думаю, там как раз трудятся и сочиняют юмористические монологи по «Мальтийскому еврею».
Кармель вздыхает. Она устала от меня? Или от моих занудных острот? Не знаю. Может, мне надо придерживаться моего изначального плана и больше не встречаться с ней? И положить конец всей этой нелепице с супружеской неверностью? Она-то, само собой, говорит, что то, чем мы занимаемся, вполне в порядке вещей, особенно принимая во внимание тот факт, что скоро она уже не будет замужем. У её мужа рак. Я понимаю, что это звучит так банально, как будто я пользуюсь всемогуществом автора этой книжки и вот приписываю бедняге рак. Но это правда. Уж поверьте мне. У него на самом деле рак. И это означает, — по крайней мере, словами Кармель, — что у меня отношения не с неверной женой, а с будущей вдовой.
— Я знаю, ты прямо сохнешь от того, что хочешь этим заняться вечером.
— Правда?
— Да я слышу как у тебя слюнки текут.
— И это означает, что мне тем более надо работать.
Слюни текут у Иммануэля Себастьяна. Это побочный эффект. Я вешаю трубку и возвращаюсь к дивану, на котором он сидит, смотрит передачу про крестоносцев, дергая коленями вверх-вниз и ожидая моего возвращения. Мне нравится Иммануэль Себастьян. Мне хотелось бы верить, что я очеловечиваю его своим хорошим отношением и просто игнорирую тот факт, что он — убийца, отбывающий срок. Так же точно я делаю Амоса Ашкенази человеком в большей степени, когда я обращаюсь с ним плохо и игнорирую то, что он просто невинный больной.
— Так это НСВ, да?
— Да, — кивает Иммануэль Себастьян.
— Никогда про такое не слышал.
— А это новое. Конечно, люди от него страдали долгие столетия, но никто не ставил такого диагноза. Современная психиатрия вообще классифицировала его несколько лет назад.
— Это умственное заболевание?
— Нет, — говорит Иммануэль Себастьян, — это личностное расстройство.
— А в чем разница?
— А ты не знаешь?
— Ты здесь уже десять лет, а я всего год.
— Хорошо, — говорит Иммануэль Себастьян. — Давай я скажу так: заболевание — это то, что у тебя есть. Болен шизофренией, например, значит болен шизофренией. Ты в этом не виноват. Это как рак: с ним ничего не поделаешь. Ты болен.
— Понимаю, — я киваю и окидываю взглядом помещение. Замечаю при этом, как Амос Ашкенази жует воображаемую пищу погрузившись в молчание.
— Ты слушаешь? — спрашивает Иммануэль Себастьян.
— Да, да.
— Ну так вот. А расстройство, наоборот. Его можно контролировать.
— Контролировать?
— Да.
— Каким образом?
— Контролировать его проявления.
— Какие проявления?
— Необычное поведение, — говорит Иммануэль Себастьян.
— Это что, единственное проявление?
— Это — единственное проявление.
Уже пять часов. Я уже два часа на работе. Все выглядит по-идиотски. Залапанный экран телевизора. Грязный пол и столы. Потрескавшийся кафель на кухне. Почти незаметная паутина над шкафчиком с лекарствами. На потолке в столовой — желтоватая известка, и оттуда каплет. Кривые меноры [4] из войлока, которые больные сделали на занятиях по трудовой терапии, все еще висят на карнизах, хотя уже прошло два месяца после Хануки. Все это выглядит по-идиотски. Почему я сижу здесь, на этом грязном диванчике и слушаю лекцию в исполнении сумасшедшего преступника, и смотрю на то, как еще несколько сумасшедших одним глазом наблюдают за очередной попыткой отбить Святую Землю у мусульман?
Может, это нытье больных и забота моих родных и не напрасны? Возможно, мне не следует быть здесь. Я должен поехать в Кардифф, работать и получить степень по кельтским языкам. Перестать встречаться с Кармель, найти новую девушку. Найду себе хорошенькую рыженькую девушку из Уэльса. Её будут звать Бранвен или Глусис. У неё будут прелестные темно-серые глаза и замечательный акцент. Она будет мягкая, светлокожая, нежная и любящая. И еще она будет не замужем.
— Это — единственное проявление, — говорит Иммануэль Себастьян.
— Проявление чего? — мой взгляд фокусируется на капле слюны, которая, поблескивая, стекает у него по подбородку — Болезни или расстройства?
— И того и другого. И в случае умственного заболевания, и в случае личностного расстройства, — больной ведет себя так, что общество называет это странным поведением. Девиантным. В обоих случаях больной выходит за пределы нормы.
— Так в чем разница?
— Разница в том, что если у тебя умственное заболевание, то никто не винит тебя за твое поведение.
— А если личностное расстройство?
— Тогда ты в ответе за любое проявление необычного поведения. Считается, что ты хозяин своих симптомов.
Нравится мне, как Иммануэль Себастьян произносит это: «хозяин своих симптомов». Он произносит эти слова по-особенному низким голосом, будто приговор зачитывает, да так, что эти слова звучат как не от времени сего, пророчески и почти зловеще. Как в старых тяжелых мелодиях Black Sabbath. Я до сих пор слушаю их почти каждый день. Вот, кстати, и еще одна причина, по которой мама думает, что я в тупике. Хэви-метал — не то, чем будет интересоваться умный человек. Она ужасно гордится тем, что её хобби, хобби образованных людей, — требуют к себе больше сил: русский роман девятнадцатого века, классическая музыка, диализ. От тяжелого рока, говорит она, я тупею. Она была бы счастлива, если бы я уехал за границу продолжать учиться. Потому что в больнице (уверена моя мама) я тоже тупею. Не говоря о том, что это опасно. И бесцельно. Бросай свою работу — одного года в психбольнице должно хватить с избытком — и вперед в аспирантуру. Неважно куда, неважно на какую специальность, только напиши диссертацию. Только поторопись. Мне очень хотелось бы, чтобы ты стал профессором университета, пока я ещё жива.
Кармель, напротив, не верит в цели в долгосрочной перспективе. Дерзкие решения возбуждают её. Если в чем-то прослеживается логика, резон или нацеленность, — это не для неё. В жизни надо все тратить, говорит она. Трать — с пользой или без. Деньги, время, свои силы и ресурсы до последней капли. Как дети. Все по мелочам и никаких попыток копить или откладывать. В этом смысл жизни и квинтэссенция молодости. Только больные да старики заботятся о сохранении энергии.
Ладно, хватит про Кармель. Примерно через час принесут ужин, и больные уже волнуются.
— Господин! — кричит Ассада Бенедикт. — Я мертвая!
— Не кричи! — кричу я в ответ. — Не видишь, я тут разговариваю? И я не твой господин. Я сиделка.
— Сиделка? А сиделки… ну… не должны разве быть женщинами?
— А я сиделка-мужчина.
— И эти люди говорят, что именно я чокнутая.
Ну, кстати, я вполне понимаю, почему Ассада Бенедикт думает, что если сиделка — так обязательно женщина. На иврите, как и по-немецки, у нас нет особого слова для обозначения сиделки. Мы просто говорим слово сестра. Одно и то же слово. А сиделка-мужчина, соответственно, будет так же, как брат. А по-английски так нельзя. По-английски, в отличие от иврита, есть сиделка-женщина и сиделка-мужчина. Вот именно поэтому Абе Гольдмил за моей спиной называет меня Krankenschwester [5], — думает, я его не слышу с поста сиделки, а если и слышу, то все равно не понимаю. Но про Абе Гольдмила я еще не говорил, так что потерпите. А пока мне надо позаботиться об Ассаде Бенедикт.
Я сбрасываю сообщение на пейджер доктору Химмельблау. Она приходит, вкалывает Ассаде Бенедикт дополнительную дозу галидола и велит ей ложиться спать.
— Ты чудовище, — говорят мне они.
— Тебе бы быть понастойчивее, — говорит доктор Химмельблау, — они бы ни за что не посмели так с тобой разговаривать.
Хорошо ей говорить. Она их лечит, а не я.
— А что насчет лечения? — Я снова поворачиваюсь к Иммануэлю Себастьяну.
— Одно и то же лечение, — говорит Иммануэль Себастьян. — Разница в том, что если у тебя умственное заболевание, то тебя заставляют пройти курс лечения.