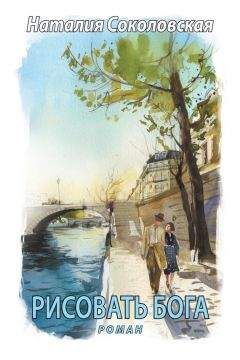Ознакомительная версия.
«Постарайся выбраться. Париж пойдет тебе на пользу», – писал Хенрик. Не знаю, любил ли я этот город раньше. Но я хотел его, это точно.
Габардиновое пальто и шляпа-борсалино придавали мне уверенности. Шляпа принадлежала моему старшему брату, канувшему в безвестность на самом излете Великой войны. А пальто – отцу, он погиб в двадцатом под Казатином. И не исключено, что от пули, пущенной уже его двоюродным братом: с той частью семьи, что в самом конце прошлого века отправилась за лучшей долей вглубь империи, связь была давно утеряна.
Пальто мать перешила незадолго до моего отъезда, а шляпу вычистила и сменила ленточку на тулье. «Ну, вот. Уж теперь ты будешь выглядеть, как настоящий парижанин. Только возвращайся, Тео». Она никогда не называла меня полным именем.
Я стоял на площади с чемоданом в руке и озирался, и вид у меня, наверное, был дурацкий, потому что продавщица цветов, молодая и быстроглазая, отошла от террасы кафе, где грелась возле гудящей жаровни, и поинтересовалась, куда мне. Я назвал адрес, и она сказала, что удобнее всего на метро. Хенрик тоже писал об этом. Но я решил идти пешком, хотя метро было для меня в диковинку.
Цветочница рассмеялась. Она повидала многих приезжих и знала, что творится у них в душе. Указывая мне направление, она повторила жест апостола Петра, и дешевые браслеты звякнули на ее запястье, как связка ключей.
Я шел по Страсбургскому бульвару, стараясь дышать медленно, чтобы унять сердцебиение. Чувство было как перед близостью.
На Севастопольском бульваре я зашел в банк и получил по чеку некоторую сумму. Не бог весть какую, но сон, преследовавший меня несколько дней перед отъездом – стою посреди города без малейшей наличности, – уже не грозил обернуться реальностью.
На площади Шатле я пил кофе в маленькой закусочной, курил одну сигарету за другой и чувствовал, как не переставая дрожат мои пальцы. Почему-то я знал, что больше не увижу свою мать, знал, что не вернусь в заштатную нотариальную контору, где провел пять лет в должности помощника нотариуса, дожидаясь, когда освободится место, и тайком записывая стихи на канцелярских бланках.
Я знал, что повторяю путь, проделанный до меня многими. Путь, который, после меня, проделают многие. Путь, похожий на перетекающие из одного в другой бульвары, по которым я шел. Это было гордое чувство, оно доставляло мне одновременно грусть и радость, оно не умаляло, а поднимало меня. Растворяясь в прошлом, я одновременно растворялся в будущем. Бессмертие, данное в ощущении.
С моста я долго смотрел на солнце, которое клубилось выше и правее Нотр-Дам в желто-зеленых, выпуклых, пастозных, как на картинах Ван Гога, облаках, и чувствовал, что лечу в сияющую воронку, и целиком отдавался этому влечению.
Бульвар за площадью Сен-Мишель пошел вверх, совсем немного, но два дня в дороге и нервное напряжение сказались: я вдруг устал, и чемодан сделался тяжелым. Спрашивать у прохожих, на каком автобусе добираться, значило дезавуировать себя и превратиться из человека, который возвращается, – в приезжего. Я решил продолжать путь, полагая, что нужная улица недалеко.
Моя терпеливость была вознаграждена, когда я увидел, как возле Люксембургского сада стайка детей с небрежно повязанными шарфами, в коротких пальто, перебегает дорогу под приглядом воспитательницы. Их голые худые ноги в сползших к ботинкам гетрах были невероятно трогательны.
И только в улочках между бульварами Араго и Порт-Руаяль я плутал, пока не нашел нужную, самую узкую, с протянутыми между домами веревками, на которых тихо колыхалось исподнее вперемешку со скатертями и мужскими рубашками.
Пожилая консьержка в коричневой грубой кофте и поднятых на лоб очках открыла мне дверь и передала ключ от комнаты, которую снял для меня Хенрик.>
__________
Стех пор, как Славик был у Эмочки в последний раз, а случилось это перед отъездом сына, в квартире ничего не изменилось, разве что книг стало еще больше. Штабелями они располагались вдоль стен, подпирали потолок. Эмочка заметила взгляд гостя и радостно всплеснула руками:
– Это еще не всё!
«Всё» оказалось в ванне. Она была заполнена книгами до краев. Славик онемел. Поскольку вопрос напрашивался сам собой, Эмочка, беспечно тряхнув седой челкой, сказала:
– А моемся в бане, тут ведь рядом! – Самые обыденные вещи Эмочка умудрялась произносить с восклицанием. – Как поживает Софья Александровна?
Вопрос в ее исполнении тоже заканчивался интонационным взлетом и как бы не подразумевал ответа. «Наверное, она очень счастливая», – подумал Славик, и сам себя одернул: как можно быть счастливой, отсидев десять лет… да и с дочерью… что-то он слышал, какая-то давняя, страшная история…
Предположить, что подобную жизнерадостность семидесятитрехлетней Эмочке внушает ее шестидесятитрехлетний муж, Славик не мог. А свечение было налицо.
«Даже» свое половинное еврейство Эмочка переносила легко. Тогда как в Славике его половинка вызывала сложное чувство, которое он мог бы охарактеризовать как чувство неловкости, и он радовался, когда и без того неявные признаки национальности начали в нем стираться благодаря достаточно раннему облысению и поседению. Правда, всякая неловкость прекращалась, стоило только ему вспомнить, что его нет.
– Видите ли, Эмилия Аб… – Славик привычно запнулся на отчестве.
– Да-да! Абрамовна. – Легко согласилась Эмочка.
– Видите ли, недавно мы с женой нашли в семейном архиве… – Славик и сам не понял, зачем приплел несуществующий архив. Может, обилие книг в квартире так на него подействовало, – …нашли одну вещь. Но прежде я хотел вас спросить: говорит ли вам что-то фамилия Полян?
– Так это же ваша фамилия, Станислав Казимирович! – Эмочка даже на стуле подпрыгнула.
– Да. Но… Может, кто-то еще.
– Ну, конечно! Есть еще поэт… Очень малоизвестный. Малоизвестный даже в узких кругах филологов. Замечательный, кстати, поэт! Его книжка есть в Публичке. Кажется, одна на весь город. А может, и на всю страну!
На Славика дохнуло не то жаром, не то холодом. Ему показалось, что гости Эмочкиной матери присутствуют в комнате всем составом.
– Так что же вы не говорили…
– Но ведь и вы не говорили! Неужели – родственник? Надо же! Левушка никогда звуком не обмолвился, а ведь открытый мальчик!
Насчет открытости сына можно было бы и поспорить, но точно не сейчас.
– Он не знал… И моя мама ничего никогда не рассказывала…
Наверное, вид у Славика был потерянный, потому что Эмочка сочувственно погладила его по руке:
– Извините, мне и в голову не приходило… Я думала, случайное совпадение… однофамильцы. – И добавила точно в утешение: – Мне о Поляне с конца сороковых известно, но для исследователей его имя всплыло в начале девяностых, когда архивы КГБ начали открывать…
Славик встрепенулся:
– Так еще же нет ничего определенного… Скорее всего, и впрямь, однофамильцы…
Он хотел встать и уйти, но Эмочка неожиданно строго посмотрела ему в глаза:
– Подождите. Вы сказали о каком-то предмете… Все-таки, что вы принесли?
Славик уже понял, что просто так ему отсюда не выбраться. Вздохнув, он достал тетрадь.
– Вот… Я, собственно, не знаю. Имеет ли это какую-то ценность.
Эмочка бережно приняла тетрадь из рук Славика, открыла, начала читать.
Она перевернула одну страницу, вторую, третью. Лицо ее выразило крайнюю степень заинтересованности, а потом удивления и восхищения.
– Боже ж ты мой! Вы прочли?
– Так… Полистал. Там какие-то люди… не наши… Я не понимаю…
– Ведь это, несомненно, он. Теодор Полян! Откуда у вас тетрадь? Это же чудо какое-то!
Собственная фамилия, произнесенная другим человеком столь уверенно, восторженным тоном и даже с восклицанием, – поразила Славика. Он-то ведь знал, что все его бытование в этом мире – не более чем случайный промельк света, как тот, что он помнил из какой-то невероятной глуби детства и который ему, может быть, только примстился.
– Станислав Казимирович! Вы меня слышите? Откуда у вас эта тетрадь?
– Что? – Состояние у Славика было такое, точно он вдруг увидел себя в зеркале, которое раньше его не отражало. – Ах, да… Мама сохранила. А откуда у нее, не знаю…
– Вы не должны это так оставить. Надо расследовать.
Славик почувствовал дурноту и слабость одновременно.
– Нет-нет… не хочу… не могу… Я старый уже.
Эмочка стала гладить ладонью кожаную обложку, словно успокаивала, утешала. Это был жест, которым в детстве мама утихомиривала его, плачущего. Славик следил за движениями Эмочки, как завороженный. А потом она сделала и вовсе странное: взяла тетрадь и потерлась о нее щекой.
Ознакомительная версия.