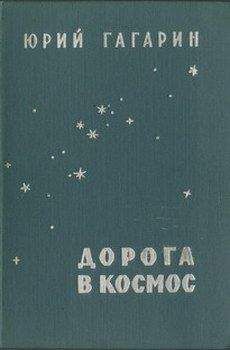Ами неохотно вернулся глазами к странице. Кой черт сдался ему этот Упыр-колледж? Было бы еще что-нибудь интересное, а то ведь сплошной трындеж про потепление народа и эксплуатацию климата… или наоборот? Тьфу, зараза! Ну зачем ему это?
А все Моти Наве, социальный работник из последнего по счету восстановительного центра — он удружил, он насоветовал. Не обращая внимания на протесты, укатил Амину коляску из больничного холла, от телевизора с баскетболом, укатил прямиком в свой заваленный распухшими папками закуток, сел, скрипнув ремнями, весело тряхнул мелкими седеющими кудряшками.
— А не пора ли тебе, парень, к жизни возвращаться? Сколько можно по ортопедам гулять?
— Гулять? — удивился Ами. — Ничего себе гулянки. В подвалах испанской инквизиции и то веселей гуляли.
Моти усмехнулся, кивнул на свои ножные протезы.
— Не один ты такой, болезный. Только хватит уже, Ами, братишка. Этак в больнице и состариться можно. Зачем тебе это?
— А что ты предлагаешь? — осведомился Ами. — Коробки клеить в инвалидной артели? Кому я такой нужен?
— Таким же, как ты, братишка, — уверенно отвечал Моти. — Вот я тебя сейчас на путь истинный наставляю? Наставляю. Значит, я тебе нужен. Кто еще о нашем брате-инвалиде позаботится, если не такие же безногие-безрукие-слепо-глухо-кривые? Никто. Отчего бы тебе на социологию не поступить? Три года отучишься, работать начнешь. Чем плохо? Пенсия у тебя от армии имеется, комнату снять можешь. В столицах, конечно, не получится, а на периферии — пожалуйста. Да вот, хоть в Упыр-колледже. Там, говорят, жилье чуть ли не бесплатно. Парень ты грамотный, не чета мне, черному хулигану из проблемных бараков. Ты-то, небось, школу в Беверли-Хиллз кончал, как в том кино про красивых телок?
— В Бостоне, — поправил Ами.
— Ну вот! Тебе и карты в руки! — Моти взял со стола папку и бросил ее Ами на колени.
— Что это?
— Как что? Я же тебе ясным языком говорю: карты. Твои, медицинские. И чтоб через неделю духу твоего здесь не было. Понял?
Моти приподнялся на стуле и двумя ловкими движениями вытолкнул Амину коляску назад в коридор.
— Понял, — эхом откликнулся мало что понявший Ами Бергер в уже закрывающуюся дверь больничного соцработника, отставного, как и он, сержанта боевой саперной бригады, а значит, кровного братишки Моти Наве, товарища по несчастью, потерявшего ноги в Северной войне на двадцать лет раньше, чем Ами потерял свои в Южной.
Ами и в самом деле закончил школу в Бостоне, да и родился там же, и жил до неполных девятнадцати лет, пока не поманил его к себе непонятно чем и непонятно на кой крошечный клочок земли, несусветно далекий по всем параметрам — географическим, ментальным, погодным, языковым. Всего-то и съездил туда на три недели — по ознакомительной молодежной программе, а зацепило крепко, за самые кишки. Когда он объявил родителям, что уезжает служить в доблестной прославленной армии обороны Страны, на языке которой говорить пока не умеет, но которую полагает теперь своею больше, чем родной штат Массачусетс, удивлению их не было предела.
И откуда только все взялось? И, главное, зачем? Что за блажь, Ами? Разве не собирался ты поступать в университет? Разве не гонялся ради этого за высокими школьными баллами? Разве не распланировано все твое будущее от младшего класса до старшего партнера в адвокатской фирме, от трехколесного велосипеда до корпоративного лимузина, от кленовой колыбельки до дубового… гм… впрочем, зачем о мрачном? Разве не построены уже под это долговременные страховые программы, пенсионные фонды, вклады, займы, облигации? Разве не заточена соответствующим образом жизнь, ее надежный ритм, ее уверенный шаг? И потом: а мы, сынок, а как же мы с отцом? О нас ты подумал?
Ами только пожимал плечами, смотрел виновато, но уж больно тонкой занавесочкой висела в его глазах та вина. А за нею, сразу за нею не было уже ничего, кроме чужой, незнакомой Страны. Там жгучим огнем полыхало сильное, решительное, злое солнце, совсем не похожее на своего вежливого бостонского родственника. Там на сотни гортанных голосов вопил заваленный мусором автовокзал, и смуглые черноволосые девчонки в защитной форме, одной рукой придерживая автомат, а другой — банку колы с торчащей соломинкой, толкали по гладкому панельному полу свои неподъемные китбэги.
Там колотилось о городские волнорезы старое, лживое, безжалостное море, а стены дискотек и баров на набережной пестрели недавними метками от осколков самодельных бомб. Там распевались непристойные частушки на заплеванных семечной шелухой футбольных трибунах, там кричал восточный базар, там на танцах парни резали друг друга за будущее право зарезать девчонку, когда она станет, наконец, женой победителя, там каждый третий только и искал случая надинамить неосторожного первого и зазевавшегося второго. Там чернел базальт спорного плато, белел песок спорного берега, зеленели поля спорных долин и краснели ущелья спорных гор.
О, там решительно было о чем поспорить, на этой земле, и отсвет всех эти споров сразу видели перепуганные бостонские родители в потустороннем уже взгляде своего отравленного, обманутого, заманенного, затуманенного мальчика. Если и существовало что-то бесспорное в этой ужасной ситуации, то именно эта бесповоротная потусторонность… о, Боже, Боже, за что, за что?! И почему, Боже, почему?
Эти вопросы задавали они и вслух, и в сердце своем, но ответом было лишь смущенное молчание, словно даже Тот, кого они спрашивали, затруднялся с убедительной формулировкой. Еще бы — Он ведь тоже самолично проживал в этой невозможной Стране и точно так же не понимал, почему именно в ней, а не, например, в тихом и удобном Бостоне.
— Ничего страшного, — с фальшивой уверенностью успокаивали друг друга родители. — Это просто возраст такой.
Сами виноваты — дали парню слишком тепличное воспитание, чересчур оберегали от простудного ветерка настоящей жизни. Вот и получили по заслугам: ну что может вырасти в оранжерее, кроме экзотических цветов и глупых мечтаний? Пускай теперь перебесится. Через месяцок-другой поймет, что к чему, вернется, хоть и с поджатым хвостом, но повзрослевшим. Не вредно, если вдуматься. В самом деле, что такое взросление, как не умение вовремя поджимать хвост? Вот только жаль пропавшего учебного года, и фондов жаль, и страховок, и сберегательных программ, а тут еще и доллар падает так некстати… ах, Ами, Ами…
Ами вернулся через несколько месяцев, ко Дню Благодарения, похудевший, загорелый и молчаливый. При взгляде изнутри, по внешнюю сторону окон туристских автобусов, где наблюдатель становится еще и участником, Страна оказалась другой — не лучше и не хуже, чем он представлял себе до переезда, а именно другой. В противоположность нормальным местам, где новичку какое-то время приходится ходить в неполноценном ученическом статусе, здесь Ами сразу признали своим на все сто.
С одной стороны это льстило, с другой — пугало. Многое раздражало, а больше всего — мелочи. Ну почему так хреново работает почта? И разве нельзя проверить автобус перед выездом на линию, чтобы он не ломался на третьей же остановке? И зачем превращать опоздания в принцип? А чиновники! Чиновники — это вообще какая-то песня, причем, восточная, заунывная…
Но самым непонятным выглядело отношение к Стране проживающих там аборигенов… назовем их, пожалуй, странниками. Все местное, о чем бы ни зашла речь, подвергалось здесь уничтожающей критике: климат, правительство, еда, армия, полиция, люди — особенно люди.
— Ну что можно сделать с таким народом? — спрашивали странники и презрительно сплевывали на пол. — Погляди парень, как тут все заплевано! Вот в Америке… то ли дело в Америке. Ты сам-то откуда будешь? Из Бостона? Ну ты, брат, даешь… на черта ты в этот клоповник приехал — пошел бы лучше в докторы. Или к доктору.
Характерной чертой ругани было то, что предназначалась она исключительно для внутреннего употребления — только между своими. Именно поэтому Ами не слышал ничего подобного в свой прежний приезд, еще туристом. Это неприятное лицемерие озадачивало и отвращало. Да и вообще, он ужасно соскучился по дому.
Билет в Бостон Ами заказывал по телефону.
— Ах, Америка! — вздохнула девушка-агент. — Как я вам завидую, господин Бергер! Отдохнете душой от наших пакостей… На когда вам обратно?
Ами замешкался. Возвращаться сюда он не планировал, но почему-то испытывал трудности с артикуляцией этого намерения. Слова никак не складывались в связное предложение.
— Господин Бергер? — поторопила его девушка. — Вы хотите еще подумать? Должна вас предупредить, через две недели скидки уже не действуют.
— Я… это… — промямлил Ами. — Не надо обратного.
Девушка помолчала, но Ами уже успел достаточно пообщаться со странниками, чтобы безошибочно распознать тип этого молчания. Даже странно, как прекрасно передается по телефонным проводам столь неуловимая субстанция, как презрение. Но — за что? Разве сама она еще несколько секунд назад не завидовала его поездке, подальше “от наших пакостей”? Опять это проклятое двуличие, черт бы его побрал!