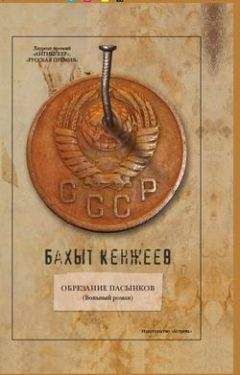Звезды противоречили окружающему миру. И дело вовсе не в том, что они были лучше. Понимаешь ли ты, втолковывал я сестре, что они легкие, а вокруг нас - тяжесть? Сестра не понимала, как, впрочем, и товарищи по школе - с этих разговоров, с которыми я навязывался встречным и поперечным, окончательно и утвердилась, вероятно, моя печальная репутация зануды. И атлет Коля Некрасов, и футболист Игорь Горский, и остроумец Ваня Безуглов, и даже розовощекий, чуть смахивающий на поросенка Володя Жуковкин, более снисходительно встречавший мои отвлеченные излияния - иные поставили на мне крест (о девочках уж и не говорю), иные стали задирать меня по углам, иные обходились насмешками. Упаси Господь видеть в этом драму непризнанного вундеркинда или некий символ противостояния выдающегося человека косному окружающему миру. Полагаю, что тот же Ван Гог (с которым ни в коей мере не отваживаюсь себя сравнивать), покуда не начал на почве преданности искусству отхватывать себе уши опасной бритвой, был вполне нормальным подростком, а в мемуарах преподавателей лицея, где пару раз упоминается юный Сашенька Пушкин (опять же, никаких высокомерных уподоблений) не обнаруживается особых признаков будущей гениальности. Нет, детское одиночество - это просто карта, которую мы вытягиваем наугад из небесной колоды, и вспоминаю я о нем - просто так, потому что другого детства у меня не было и, скорее всего, уже не будет. Добавлю только, что рассуждения о звездах, морском песке и иных подобных предметах, моя отрада в томительные часы перед сном на пружинистом диване у подвального окошка, не избавляли меня от подростковых страданий, даже напротив, усугубляли их чрезмерно. Надо ли объяснять, что и в двенадцать лет голубоватый лед Патриарших прудов, в мелкую пыль рассекаемый фигурными коньками подруги, стоит решительно всех звезд на свете? Конечно, не один я был в классе занудой: Лена Соколова читала ничуть не меньше, а тщедушному Лерману тоже нередко устраивали пятый угол - и в какой-то момент он даже искал моей дружбы, с тайной целью создать братство угнетаемых. Я не согласился, и более того - сам начал не то что заискивать перед классными коноводами, но во всяком случае пытаться доказать им, что и в Татаринове может отыскаться известная польза. Низко, но объяснимо: и не в те ли отдаленные годы родился во мне проклятый максимализм, вечная жажда получить все или ничего?
Сами эти понятия - все и ничего - определялись по незрелому детскому разумению, однако вряд ли я с тех пор стал преследовать цели более истинные - а с другой стороны, что есть истина, как говаривал один высокопоставленный римский чиновник на исходе своей долгой и утомительной командировки в жаркую страну носатых сборщиков налогов, непривлекательных девиц легкого поведения и дурно обтесанного мрамора варварских храмов.
Жизнь если и не близится к концу, то перевалила далеко за середину. Я все чаще замечаю особую укоризну во взгляде небольшого бюстика дона Эспиносы (алюминий под бронзу, выпуск Ленинградского завода имени чего-то несусветного), украшающего мой письменный стол - хотя, по правде сказать, это не мой стол, а хозяйки квартиры - нечто хлипкое, узенькое, без ящиков, второпях сварганенное из крошащейся древесностружечной плиты, фанерованной под красное дерево. За окном начинают перекликаться большие краснохвостые птицы, название которых мне неизвестно, компьютер издает успокаивающий легкий гул, похожий на пение телеграфных проводов (что ничего не означает, потому что компьютеры в моих руках ломаются легче соломинки в пальцах скучающей девицы). Я не работаю. И философствовать мне наскучило. Я закрываю глаза и переношусь в угловую полуподвальную комнату с редкими, тронутыми ржавчиной железными решетками на обоих окнах. Мать и сестра давно спят, уличные фонари горят через один, так что в комнате почти совершенно темно. Повизгивает коротковолновый приемник нашей радиолы, указатель мягко движется по яично-желтой стеклянной шкале, где начертаны волшебные и недостижимые имена: Рим, Иерусалим, Дублин. Отцу меньше лет, чем сейчас мне, военное дело в школах отменили в порядке борьбы за мир, и к шести утра он должен отправляться на Красную площадь продавать билеты на автобусные экскурсии по достопримечательным местам столицы - сравнительно денежная работа, в которой он стыдится признаваться родным и знакомым. Он устает, редко разговаривает с нами, и ничего не читает, кроме газет, а часам к девяти начинает настаивать на том, чтобы мы шли спать под свои одеяла в накрахмаленных пододеяльниках. Чтобы не мешать детям и жене, он поставил регулятор звука на самое тихое деление, а сам склонил ухо почти вплотную к динамику, скрытому за пупырчатой гобеленовой тканью. Его напряженное лицо в зеленом свете радиоглаза тревожно и прекрасно.
Мы с матерью возвращались домой из детской поликлиники: сквозь заснеженный двор, мимо пустынного сквера, обнесенного невысоким чугунным заборчиком, мимо озябшего багровоухого милиционера у коста-риканского посольства, мимо увенчанного куполом склада лесоматериалов, где раньше размещалась церковь Николы на Могильцах. На днях явилась моя седовласая и решительная бабушка. Нас с сестрой выгнали гулять. Я подсматривал с улицы в щель между гардинами, сшитыми из простыней: абажур, свисавший с потолка, светился апельсиновым светом, и трое за столом озабоченно склонялись над дымящимися чайными чашками и стеклянными розетками, в которых грузно краснело заветное клубничное варенье. В том году я начал страдать мигренями - недомоганием, конечно, аристократическим, однако мучившим меня ужасно. Приступы настигали меня чаще всего по воскресеньям, в библиотеке; в душном, пропахшем книжной пылью воздухе, словно в весеннем льду, зарождались промоины, быстро засасывавшие сначала текст на странице, потом и саму книгу, а затем и портреты великих писателей на стенах, а там и все помещение читальни. В задней комнате, где обычно по очереди отдыхали две тихие библиотекарши, лежал я на кушетке, прикрытый собственным пальто, и пытался уговорить себя, что скоро начну видеть, как обычно. Однако расстройство зрения сменялось сверлящей болью - и вместо того, чтобы хохотать над похождениями Остапа Бендера или рыдать над судьбой злополучного Оливера Твиста (до счастливой развязки оставалось еще добрых две сотни страниц убористого текста), я смотрел в потолок, напрасно силясь забыть о раскаленной игле, пронзавшей мой правый висок, и выжигавшей, казалось, все, ради чего стоило жить на свете. Вызванная по телефону мать, вздыхая, повязывала мне вокруг шеи колючий клетчатый шарф, опускала уши кроличьей шапки, бережно отводила домой, отпаивала горячим молоком, и кухонным ножом раскалывала на три части взрослую таблетку горького, но спасительного лекарства. К возвращению озабоченного отца (по воскресеньям он обычно работал) я уже выздоравливал, хотя и пребывал в прескверном настроении (кажется, именно тогда вычитал я в словаре замечательное, уже поминавшееся выше слово "мизантропия"). Не читалось, не игралось в математические головоломки, не думалось - и напрасно просила меня сестра рассказать ей еще одну страшную сказку про Тентика-соломенные ножки, обитавшего в вентиляционном ходе, и редкими вечерами, когда родители уходили в кино, нещадно шуршавшего в поисках свободы. Говорят, эскимосы умеют вполне комфортабельно обитать в одном помещении огромными семьями: обращаются друг к другу только по крайней нужде, двигаясь же по своему чуму, тщательно и умело избегают взаимных прикосновений и даже взглядов. Нам тоже приходилось осваивать это умение - я знал, что когда отец после ужина читает газету под абажуром, мы с сестрою должны сидеть тише воды, ниже травы, а лучше всего - вообще уйти во двор, играть с товарищами под внимательными взглядами престарелой Марьи Ильиничны и вовсе уж ветхой Татьяны Всеволодовны, которые сиживали в полуразвалившейся беседке даже в самую лютую стужу. Неужели эти серые платки такие теплые, думал я. Когда я страдал от своей мигрени, когда следил за неловкими движениями матери, поливавшей цветы в горшках на подоконнике, и неподвижностью отца за его газетой - мне и самому хотелось на улицу, но я был слишком слаб, я отворачивался лицом к стене, вместо сна приходили страшные видения, я стонал, и отец с матерью одновременно подходили к дивану и кто-то из них клал руку мне на лоб, и я успокаивался, но засыпал все равно нескоро. Свет под апельсиновым абажуром гасили. Отец уходил читать газету и курить на огромную кухню, где посредине стояла массивная, щербатая от старости деревянная скамья для стирки, мать садилась у меня в изголовье. Неблагополучие висело в подвальном воздухе, и герань пахла больницей.
Так продолжалось полгода едва ли не каждую неделю. После прихода бабушки меня отвели к доктору Бартосу (которого я прекрасно знал по домашним визитам), и я вздрогнул, когда ледяной никелированный стетоскоп коснулся моей рахитичной груди. Органических недомоганий не обнаружилось, повторял я с удовольствием, мигрень отнесли за счет слишком быстрого роста, но телосложение мое оказалось астеническим, реакции - замедленными, пальцы - слишком холодными - одним словом, толстяк доктор прописал мне внутривенные вливания, и в тот же день, изнывая от гордости, я отправился с рецептом в аптеку, где и получил две картонные коробочки цвета оберточной бумаги, а в них - по десятку ампул и небольшому кусочку того же картона, обсыпанного алмазным порошком. Медсестра, позевывая, проводила картонкой по горлышку ампулы, обматывала его ваткой и без видимого усилия обламывала, а затем другой ваткой, влажной от спирта, касалась моего обнаженного локтевого сгиба. Я дрожал от страха и любопытства, наблюдая, как она вынимает из никелированной коробочки с кипятком чрезмерно длинную и толстую иглу, как перевязывает мне резиновым жгутом плечо, чтобы набухли вены - и очень скоро они действительно обозначались под кожей багрово-синими ручейками, медсестра хищным взглядом выискивала самую толстую, и, ущипнув ее, пыталась всадить ту самую иглу - блестящую, полую, со скошенным кончиком. Я бледнел и бодрился, пока она советовала мне отвернуться, чтобы не было страшно, и мотал головой, бурча, что где-то в Америке уже есть шприцы такие тонкие, что укалываемый совершенно не чувствует боли. Расхохотавшись, медсестра сделала чуть заметное движение своей крепкой рукой, я охнул и понял, что лучше было бы все-таки отвернуться. Вместо того, чтобы нажать на поршень, она чуть-чуть отвела его назад, и в стеклянную трубочку шприца ворвался клуб темно-багровой жидкости - как капля чернил взрывается в стакане с водой, с той разницей, что речь не о физическом опыте шла (а я уже щеголял перед одноклассниками словами вроде "диффузия" или "гравитация"), а о моем живом теле. Обошлось без обморока, разумеется - медсестра левой рукой протянула мне другую, заранее припасенную, ватку, и я с благодарностью вдохнул едкий, вышибающий слезы из глаз запах нашатыря.