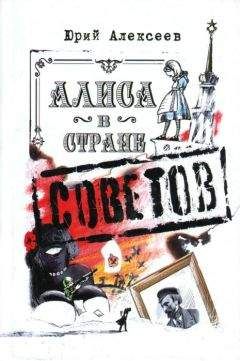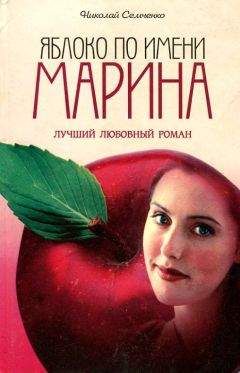— Фёдор, водяры!.. Потом, потом дашь зажрать что-нибудь…
«Что-нибудь», «как-нибудь» — совершенно для поступи не годятся, братки! Умоляю и заверяю: квас со льда не может охладить интерес к коммунизму. Это распространимо и на галстук, и на умение распорядиться горчицей, и на всё, что урчит, шкворчит, пенится на кухне у Тимофея и на виду у Данилы.
… Так лучше быть богатым, но здоровым,
И девушек роскошных целовать…
«Ай, славно, до чего славно! — разнежился Данила, измученный песней «и как один умрём» с попутным призывом чего-то сдать, отдать, подписаться. — Это не передых, не леформа, а подымай выше, если, конешно, не сплю». Пиво несколько подразмыло его робость, и ему страсть как захотелось глазком глянуть на богатых, роскошных людей, заступивших за межу, за грань тутошнего и тамошнего.
Ближе всего к кухне располагался сдвоенный столик «карликов». Им нарочно тёмный угол отдали, зная их стойкость к запахам и шумливость. «Карлик» не элитарен, каких бы высот он ни достиг. Увы, замурлыкай ему «богатым, но здоровым», из него тотчас полезет босяк, щёлкающий цветными подтяжками, и ни один Айвазовский не в силах выветрить из его квартиры запах селёдки с луком, даже если она там и не ночевала.
Данила на полскулы в зал высунулся, но на большее не отважился. Возле стола топтался швейцар с подносом, на коем была вместо пищи бумажка с секретом. Однако пирующие тянулись с бокалами к молодому, прекрасно одетому, но скучавшему как-то отрешённо блондину, выкрикивали «За царь-пушку!» — и посланца не замечали.
— Вам, Иван Лексеич! — выждал затишье швейцар и подал поднос блондину, с которого и Ванятки, по разумению Данилы, хватило бы.
— Что!? Эт-то ещё что такое? — сграбастал бумажку с подноса повелительный, с двойным подбородком дядя и презрительным голосом зачитал: «Я без галстука, а для Вас есть возможность поступить в МГИМО. Жду вас! Доцент Ерёмкин…».
— Ждёт? — переспросил дядя.
— Точно так, — подтвердил швейцар. — В гардеропе.
Блондин усмехнулся, а дядя побагровел и посмотрел вопросительно на седовласого барина в золотых очках.
— Зачем же ты посторонних впускаешь, Базилио? — претенциозно приподнял очки Буре.
— Здесь всё-таки не «Верёвка»…[6]
— В шею? — деловито осведомился «Базилио».
— Ах, как ты неделикатен! — вмешался неискренним голосом весёлый живчик приятной наружности — это Клеинский был. — Ах-ах! — и угнездил на поднос шипучий бокал: — Скажи «неприёмный день» и предложи посошок для декора.
— Вас понял, Семён Ильич! — осклабился Василий. — Оформим!
И пошёл декор оформлять.
Буре и Клеинский совершенно Данилу пленили. Всё решительно: и то, как они неспеша расправлялись с неописуемой нежно-розовой рыбой, и как умственно, сложив губы трубочкой, потягивали с ленцой крепчатину из мизерных рюмочек, и как без жмотства накладывали они в тарелки всячину красивым, плотным, готовым хоть каждый год полновесков рожать женщинам, — всё решительно склоняло Данилу к уже раскочегаренной мысли: «Свершилось! Москва достигла, а дальше оно и в деревню пойдёт, достигнет самых запятошных».
И запьяневшему натощак Даниле стало вдруг мучительно стыдно, что он, безбилетник, к тому же и недостаточно порадел общему делу, чтобы приблизить это жданное и заветное: дважды не выходил на работу (хотя бригадир Арсений и стучал ему палкой в окно), а весной сорок седьмого накопал ночью на картофельном поле полведра зародышей… Покаяться, поделиться этой страшной тайной — вот что удумал голову потерявший Данила и, как был в мешке, вывалился из простенка к столу, приближённому к кухне…
Не заточилось ещё перо, способное описать изумление «карликов» и сметение рококо-зала. Но если бы, отдадим должное, ресторан заполняла только штучная, типа Клеинского и Буре публика, ничего бы особенного не приключилось. Штучные бы вида не подали, вилкой не дрогнули, а подвижные не хуже тореадоров официанты «Авроры» тотчас накрыли бы шатуна Данилу какой-нибудь крахмальной мулетой и удалили неприметно с арены — алле ап! Но повылезавшие из чёрных низов «карлики» были не таковы, чтобы приключение упустить. Двойной подбородок тотчас согнал с места какого-то прихлебателя и усадил Данилу рядом с собой капризно и грубо, будто любимую куклу детства. Оркестр подавился и смолк. Буре уронил очки в оливье. За соседними столами послышались «шу-шу-шу», однако не заглушившие «ик-ик-ик» Клеинского, задергавшегося, как автомат «винчестер» на утиной охоте. Однако двойной подбородок не растерялся. Перво-наперво он показал оркестру правую пятерню, а левой присоединил к ней убедительный ноль. Хрипатый певец ожил и спохватчиво под воспрянувший в айн момент оркестр продолжил:
Эх, бутылочка вина!
Да не болит голова,
А болит у того, кто не пьёт ничего…
Под развесёлую музыку Данилу угостили колючим «Абрау Дюрсо», после чего его будто током вдарило, и он смутно, с обрывами, как в клубном кино, соображал, что вокруг происходит: чего-то склизкое ел, потом холодное, сладкое, а стол шумел, качался, и какой-то суетной голос жадничал: «Не давайте! Я вам как врач говорю…».
Этот голос и накаркал, наверно. Данила почуял, как в животе его стали драться, царапаться кошки, но не так, как после толченой коры, а не в пример серьёзнее. Острая боль надломила Данилу и свалила со стула.
«Ай, как срамно… и людям беспокойство», — затосковал Данила, в то время, как жёсткие руки Ванятки поднимали его непослушное тело, и кто-то резко распоряжался: «К Склифософскому! Какая к чёрту «скорая»? В машину ко мне, идиоты! Я же говорил, предупреждал…».
Потом запахло бензином, и кто-то мрачно, с осуждением сказал: «Ехали цыгане не догонишь. Дохлое дело, господа!».
Затем хлопнула дверца, Данилу понесли на руках и положили на что-то холодное, приятное. «Погреб», — сообразил он и глаза разлепил.
То был не погреб, а ослепительная, вся в электричестве комната. Данила лежал на клеёнке и не в мешке, а в настоящем, какое не снилось и заготовителю Ковтуну, исподнем, а над ним стоял белый врач, за спиной коего различались очкастый барин, встревоженный Тимофей и крепыш Ванятка с напряжёнными от натуги глазами.
«Он, зараза, меня дотащил, наверно, — подумал Данила. — Стойкий юноша, дерётся, наверно, как чёрт на пасху!».
И тут его свели страшные судороги, жар в животе сменился на пустоту, и зазвенели в ушах печальные колокола церкви Скорбящей Богородицы.
«Да как же без причастия, без отпущения грехов?» — заволновался Данила, ища последним усилием глаз икону.
Иконы в электрической комнате не было. Но затухавшему взору Данилы открылась замена. На голой стенке он углядел портрет святоносного Отца всех народов. Чуток курносый, на диво обрусевший Отец ласкал на фоне берез пионерчика и вглядывался в те самые очертания Будущего, в котором жить-поживать поколению людей, и которое сам Данила увидел воочию, соприкоснулся, глотнул напоследок маленько, да и лежал на одре чисто, прибрано, в дармовом городском белье. И слёзы немой благодарности свежей росой навернулись на угасающие глаза Данилы. Последним усилием он приподнял себя, и трудно, по-черепашьи вытянул иссечённую шею, чтобы слова его были слышнее для Отца и Благовершителя.
— Да… да святится имя твое… — прошептал он страстно и отпал, закончив мирские труды.
В палате повисла чёрная пауза. И первым её нарушил Иван:
— На вот, возьми, — протянул он мрачному Тимофею пять сотенных — свой приз за айсоров. — Да не топчись, они так… шальные.
Непослушными пальцами Буре извлёк из бумажника вдвое и тоже на обряд отчинил:
— Ты не скупись, Тимофей, «карлики» доприложат. — Ох-хо-хо, грехи наши, — и Данилу перекрестил: — Получил-таки бедняга землю в вечное пользование… Аминь!
Клеинский уехал встречать жену на вокзал, и домой потратчики возвращались пешком. Иван жил на Трубной, Буре — на Сретенке, так что им было по пути.
На дворе непогодило. С неба валила запоздалая снежная крупа, и перебравший изрядно Буре двигался с остановками, шумно отпырхивался и задирал голову, подставляя лицо холодным колючкам. Оба молчали.
На углу Сретенки и Колхозной, где над зданием универмага на синем жернове соблазнительным ятаганом поблёскивала в сиянии букв бесстыжая осетрина: «Вкусно, питательно, купите обязательно!», Ивана наконец прорвало:
— Н-ну карлики… сволочи… шутя угробили человека! — Буре скептически усмехнулся, покачал больной головой:
— Ипсо факто, юноша, Данилы умерли далеко в позадавешнем…
— То есть??
— То есть когда обманулись, пошли за теми, для кого земля просто шар, мировая окружность на потребу эксперимента, друг мой, — в миноре, усугублённом выпитым, проговорил Буре. — И на обломках самовластья, взамен пленительного счастья, — обломки собственной сохи.