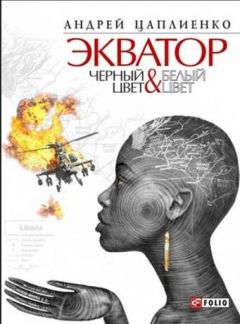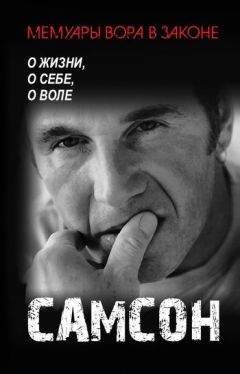Фальшиво наигрываемая мелодия в полуночном переходе метро.
Подаренная лучшим другом дурацкая меховая игрушка.
Плохие стихи.
Ночной осенний разговор — в виде исключения не аськой и не электронной почтой. Промозгло и сыро. Руки мерзнут.
— Я уезжаю. Ничего не получилось у меня. Хотел все сломать — сломал. А строить — не получается. (Зло) Истинно, Москва ваша — что доска, спать широко, да как ни повернись — жестко.
— Люди живут.
— Живут. А я не хочу. Без регистрации тут за человека не считают.
И морщится, и бьется мелкая жалкая морщинка у лба, и прядь волос из-под кепки выбивается. Говорю жестоко «Ты неудачник. Ты приехал, не желая работать. Ты запутался в своей жизни — а жилье не ищут только через девушек. Ты неухожен. Ты беден и некрасив. Меня достало быть твоей жилеткой и мне не интересно больше использовать в качестве жилетки тебя — сломанного. Москва не верит слезам, — говорю я, — ты ведь это знал, когда ехал сюда? Почему ты предпочел бренчать на гитаре и пить пиво, почему ты предпочитал выслушивать мои исповеди, а не пахать — днем и ночью? — И еще, — говорю я на этом черном ветру, — Ты зарабатываешь меньше меня. Ты пишешь стихи — хуже меня, а прозу не умеешь совсем. Ты не умеешь целоваться. Тебе не место в Москве».
«Москвичи — снобы, — отвечает он в тон, — Вы забыли о том, что вы люди. Вы думаете только о деньгах. Вы крутитесь в колесах своей немыслимой жизни: автобус-метро-автобус-работа-автобус-метромагазин-автобус-дом. Вы считаете неудачниками всех, кто хотя бы пытается — по-другому. Вы и подумать не хотите, что настоящая страна — это не Москва, а то, что вокруг Москвы — на много километров. Вы бездарны. Вас раздавят за вашу гордыню (срываясь на крик). Вы все поплатитесь!»
— Все будет хорошо, — говорю я, — Все правильно. Хорошо, что ты был тут этим летом, — говорю я, — ты очень мне помогал. И ты ничего не сломал — твой город не хуже, чем Москва — вон там сколько наших. А в Москву ты еще успеешь, это ведь не так трудно. Этим летом присмотрелся — следующим приедешь насовсем.
— Да, — говорит он, — Я многое понял. Я многому научился. Хорошо, что этим летом ты была рядом — ты мне помогла.
И черный ветер пополам с моросью хлещет нам в лица.
«Знаешь, — говорю я, — я не верю в то, что люди встречаются. Сейчас ты уедешь и будешь наезжать в Москву пару раз в год на недельку-другую, и мы вряд ли будем видеться. Но это нестрашно, — говорю я, — Знаешь, самое страшное прощание у меня было в детстве. Мы тогда отдыхали где-то под Тамбовом и я дружила с одним мальчиком. Это была настоящая, взрослая дружба — нам было о чем поговорить и помолчать… Потом, во взрослой жизни, у меня так было только один раз, — говорю я, — Так вот, когда мы оттуда уезжали — и я и он понимали прекрасно, что это навсегда. Что мы больше никогда не увидимся, что мы не сумеем сохранить нашу дружбу с помощью ниточки писем и приветов. Мы приняли это спокойно — нас еще не заразило взрослой суетой. Мы были самыми близкими людьми друг для друга тогда. Мы прожили тем летом вместе целую жизнь, в которой было и партнерство, и ссоры, и нежность, полное понимание друг друга, то что ты сейчас называешь осанве. Но обстоятельства изменились, — говорю я, — и мы приняли это, потому что мы еще не знали, что „дружба вечна“. И нам было больно в тот вечер и хорошо, и звезды сияли над нами, а наутро мы уже не увиделись, и вряд ли когданибудь увидимся — нас больше нет, ни меня, ни его. Ты ведь понимаешь меня, — говорю я, и осознаю, что говорю это совсем не этому собеседнику, другому. — Ты ведь понимаешь меня… Почему ты не сказал, что уходишь? Почему ты не дал мне времени подготовиться к тому, что тебя больше нет?»
«Знаешь, — отвечает он, — я не хочу в это верить. Мы ведь все равно можем быть вместе — ведь ты чувствуешь меня и мои эмоции, а я чувствую твои. Нам необязательно быть рядом. К черту любовь, — отвечает он, — я не животное, чтобы мне ждать от тебя только любви! Я счастлив тем, что ты есть, и что я мог хоть изредка слышать твой голос по телефону, и я даже один раз за это лето увидел тебя — и ты стала только прекрасней, звезда моя, жизнь моя… я смешон, да? ты ведь понимаешь, что я говорю это — не тебе?»
— Ну что ж. Счастливо.
— Удачи. Приезжай в Москву следующим летом, хорошо?
— Я постараюсь. Пока.
— Пока.
Хорошо дереву. Оно просто не знает, что весной можно — не зацвести. Хотя и оно испытало однажды такую боль — позавчера, когда утром долгого и холодного дня обрубили ветки у чахлой аллеи тополей по другую сторону автострады. Они кричали весь день, весь день до вечера, а наутро двое из них не проснулись.
Но дерево тоже не знает о том, что любовь вечна. Оно просто живет, оно перегоняет соки в семена и ему хорошо — оно чувствует, как семена растут и зреют и скоро начнут отрываться с веток.
И еще оно не знает, что умирает.
Героиня начала писать роман. С одной стороны — чтобы подзаработать. С другой — чтобы развлечься, ибо писать дамский роман было ужасно весело. Роман назывался «Убить насмерть».
Она сидела за пишущей машинкой и часами трепалась с подругой, вызвавшейся быть соавторшей.
— Мы договорились! Он будет брюнет!
— Нет, блондин! Брюнеты — это не модно!
— Тогда глаза у него будут серые, а не голубые, как ты любишь!
— Ладно-ладно. Но пальцы — длинные и тонкие, да?
— Ну разумеется! Наш герой просто обязан славиться красотою рук!
— А кто он хоть будет?
— Офицер, разумеется!!! Семилистника!
— Это что, будет роман из современной жизни? И не про времена освоения? И не про Гражданские войны?
— Из современной, разумеется! Это модно. Он будет спасать героиню. Ее похитят злобные…
— Фи.
— А потом они окажутся совсем не такими злобными!!!
Еще бы я знала, что такое этот «Семилистник». Эмблема — семь разноцветных листочков, растущих из черного кружочка. Семь добродетелей на страже мира и спокойствия. Семь поверженных грехов. Семь признаков рода людского: чистота помыслов, чистота телесная, чистота сердца, чистота от гнусной волшбы одних и чистота от машинной безупречности других, чистота служения Республике людей, чистая радость победы.
Ментовка местная, попросту-то. Серые братья, хоть и разноцветные все. Он-то — из них ведь, из Ордена.
Дошла, положительные менты глючатся.
А ведь положительный. Квадратная челюсть, большие руки (это не субтильный герой романа). Излучает железобетонную уверенность в своей правоте — и ведь, как правило, оказывается правым. Силовик, однако.
Только вот — ненавидит ведь этих, полупрозрачных, всеми фибрами. И переубедить его нельзя никак и ничем — нечисть есть нечисть и ее давить. Аргументы не действуют.
Почему он кажется мне хорошим при всей его кошмарной упертости?
Может потому, что мультики любит?
«Мы живем в мультфильме. В анимешном сериале. Все совпадает — простые и преувеличенные эмоции, несколько сюжетных линий… Это мультик. Чужаки, Машины… неправдоподобный мир. Такого не должно быть! — Ты живешь в этом мире. Как это не должно? — Не должно. Я охотился на них ночами — три года. Они невыносимы. Я дрался с ними. И еще дерево это… — Какое дерево? — Ну на площади: дерево стоит, никогда не замечала? Перед мэрией? Я его в детстве боялся. — Почему? — Мне всегда казалось что оно… живое. И старое очень… всех помнит. Бррр… — А мне оно нравилось всегда. Пахнет весной хорошо. — Пахнет — да. Но оно древнее… чужое совсем. — Решилась положить руку на руку. — Не понимаю… — И не надо».
Осень наступала стремительно и жутковато. Сюжет застопорился. Ночные разговоры таксистов были интересней — ежедневное шоу. После ночной смены мы уезжали на такси, через подсвеченный разными цветами центр и слушали их переговоры:
— Первый, первый, ты где?
— Татьян, куда ехать-то?
— К Вымпелкому заказ.
— Йееехх, прокачу!
— Первый, первый, ты где?
(Тверская, горящая огнями вывесок и безлюдная)
— Татьян, я у арки этой гребаной. Пусть выходят что ли.
— Кто на Марьино? Ребят, кому ближе всего — на Марьино через полчаса?
— Не выходит никто… я уже тут десять минут торчу.
— (с тоской) Первый, первый, ты заснул? Кто на Марьино? Вась, тебе с Орехово?
(Грандиозный ночной Кремль, не темно-красный как днем, а розовый — большая красивая игрушка)
— Не, не поеду, я уже не там…
— Первый!
— А? Я тут, Танюш…
(Наконец родное шоссе)
— Ты спал что ли, первый?
— Не, ну Танюш, ну ты чего?
— Короче, я отсюда нафиг поехал, нету тут никого…
— Ну езжай…
И пишутся стихи в дороге. Так себе стихи, разве что для прозы сойдут.