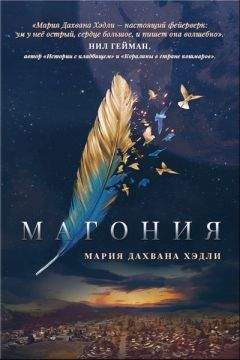Приходилось — во время немецких налетов. Очень уж жутко завывали их бомбардировщики. Не один рассудок, инстинкт тоже отключался — кровь застывала в жилах.
Я не стала вклинивать свои воспоминания в его рассказ.
— Признаюсь, я не сразу осознал всю гибельность ситуации, но в какой-то момент меня как током пронзило: шансы выжить у наших героев невелики. Несмотря на всю самоотверженность добрейшей Полины Степановны, она тут мало что может изменить. И если хоть один из них — на фоне всего этого фейерверка — скончается, то за эту невосполнимую утрату я немедленно отвечу своей головой. Врач — диверсант, вредитель, враг народа, да еще какой враг: поляк, уже побывавший в лагерях. И в новом лагере врачом меня уж точно не поставят. Закатают на каторжные работы. Так-то… И ничего не осталось во мне, кроме животного ужаса. В висках стучало: в лагерь я не пойду! Не пойду! Нужно действовать, действовать — немедленно. Пишу рапорт: так и так, условия нашей больнички не позволяют обеспечить надлежащий уход… Ну и так далее. Все чистая правда: нет соответствующих медикаментов, при печном отоплении невозможно поддерживать в помещении постоянную высокую температуру, необходимую для жизнеобеспечения недоношенных детей… Да что там говорить — мы ничего не в состоянии. В былые времена недоношенных зашивали в рукав от лисьей шубы, а у нас какие уж шубы! Нехватка всего.
Прорвался на прием к секретарю райкома. Пытались задержать, но прорвался. Подаю рапорт и весь дрожу. Объясняю, каковы могут быть последствия бездействия в данном вопросе. На меня ему, разумеется, наплевать, моя судьба его нисколько не трогает, но тут он чувствует, что и над его головой сгущаются тучи. Смотрит на лежащий на его столе рапорт и спрашивает: «Вы еще куда-нибудь писали?» — «А как же, говорю, всюду написал, в колокола бил: и в область, и в Москву. Я на себя такую ответственность взять не могу». Призадумался. «Что мы можем предпринять для спасения детей?» Отвечаю: «Немедленно перевести в областную больницу». — «Но это ведь почти восемьдесят километров… А на дворе, извините, не лето». «Да, говорю, морозно, но это единственный шанс». Минуты две молчал, потом кивнул. Обеспечил транспорт, и отослали мы эту мину замедленного действия вместе с мамашей в область. В сопровождении двух медсестричек. Чтобы своим дыханием согревали богатырей.
Я не просила его исповедоваться передо мной, не желала этих откровений, но слушала, не прерывая. Он рассказывал спокойно, пожалуй, даже равнодушно.
— И что же? — спросила я.
— Умерли. Все трое. Но не у меня, — что-то такое проскользнуло в его голосе — нечто от торжества победителя. — Корову забрали обратно в колхоз.
Бабочка Брэдбери протрепетала крылышками возле моего уха. Три мальчика… Что делать? Не они одни… Миллионы загубленных… Но таких маленьких и беспомощных почему-то особенно жалко.
«Что бы ему было промолчать? — думала я, все еще сидя возле его рабочего стола. — Зачем? Зачем потребовалось и меня делать сопричастной? Не захотел унести с собой в могилу… Рассказать и как будто освободиться… Как будто нет в этом ничего особенного. Дело житейское. Дух варварского времени. Похлопотал и выиграл».
Я попрощалась, постаравшись не выказать никакого волнения, но, еще не покинув квартиры, уже знала, что буду приходить сюда до конца. И, как ни странно, это решение, в отличие от многих других, действительно было выполнено.
Мы больше не касались российских бед и преступлений режима. Находили другие темы для бесед. Обсудили идею прокладки канала от Средиземного моря до Мертвого и еще несколько смелых проектов преобразования природы. Однажды наш разговор был прерван новым появлением внучки. Но она и на этот раз недолго задержалась.
Потом наступил тот день — он, конечно, должен был наступить, — когда никто не откликнулся на мои настойчивые звонки. Я повторила свою попытку еще пару раз — в разные дни недели и в разное время — глухое эхо раскатывалось по пустой квартире за дубовой дверью. Наконец я собралась с духом, позвонила в поликлинику и попросила назначить мне очередь к доктору Пумпянскому.
— Он больше не работает у нас, — сообщила регистраторша.
— Что случилось? — спросила я.
— Не знаю, — сказала она, — нас не ставят в известность.