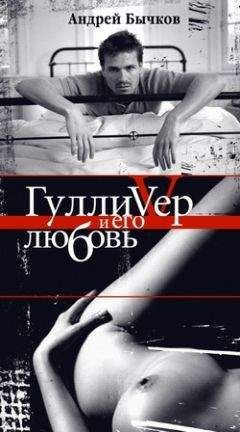– Папа много-много работает, – повторил Рубинштейн.
– Он по-прежнему поет?
– Нет, теперь он откачивает воду.
– Какую воду? – удивилась Элоиза.
– Из пруда… пруда за бывшей свинофермой совхоза, фильтрует ее американским устройством и подает в поселок коттеджей, выстроенный недавно нашими новыми русскими бизнесменами.
– Я ничего не знала об этом, – удивленно сказала Элоиза. – Так вот откуда у вас деньги.
– Вы же знаете, тетя, что это деньги для меня, – усмехнулся Лев, ловя вдруг себя на странном чувстве какого-то подземного единства со своим отцом, как будто тот был сейчас здесь и Лев с ним перемигивался, чувстве какой-то подвальной причастности к роду, к семье, от которой всегда в мечтах он, Лёва, хотел избавиться, начитавшись еще в детстве прекрасно отвратительных, одурманивающих, разрушительно классических книг, а может быть, это снова было то, тот далекий ночной разговор родителей о чрезмерной развязности рук Элоизы… – Для моего образования, – твердо закончил он, глядя тете в глаза, словно за его спиной стояли и Федор, и Лида (мать), и его, Льва, не существующие пока дети и внуки.
– Д-да, – дернула щекой Элоиза и отбросила салфетку, давая понять, что и она не лишена музыкальности и часто угадывает ноты вместо слов. – Кстати, вот рекомендация господина Фаржа, с которой ты поедешь в Париж. Не скрою, что это мне стоило довольно дорого. – Она в свою очередь уперлась взглядом в племянника. – Ведь Фарж тебя и в глаза не видывал, и ты не сдавал ему никаких экзаменов в Королевском лицее.
– Я мог бы и сдать, – тихо сказал, не отводя взгляда, Лев.
– Не надо! – в сердцах выкрикнула Элоиза. – Я сделала это не ради тебя, а ради твоей матери, которая думает, что я с тобой… с твоим…
– Тетя Элоиза, прошу вас! – поднялся Лёва, почти отбрасывая неудобный бельгийский стул.
– Прости… – вдруг зарыдала она. – Прости старую дуру.
Она поднялась и вышла из столовой.
«Конь, – почему-то подумал Лев. – Конь».
На следующее утро он снова обнаружил свое тело под одеялом, каша снов была мягко-мучительна, вчерашние разговоры были словно вывалены в кастрюлю и выварены на медленном огне, Лёва обрадовался, что деревянные дубовые шары в изголовье кровати тверды. На тумбочке у его лица лежала записка, написанная Элоизой. («Значит, она все же заходила в комнату?! Когда?!»)
«Лев, будь готов к отъезду в пять часов. Я заказала билеты в „Европа-бас“. Доменик возвращается из Парижа. Мы заедем за тобой и отвезем на автовокзал. В Париже ты будешь жить в ее квартире. Не забудь рекомендацию Фаржа, она осталась на кухне.
Элоиза».
«Доменик возвращается…» Рубинштейн посмотрел на картину. Отсветы из окна слегка изменили композицию, и теперь ему показалось, что женщина с картины в упор смотрит на него. Он перевел взгляд на серебряную цепочку, свисающую с полки, где лежала скрипка. «Уздечка», – почему-то подумал он. Пора было подниматься, ведь это последний день в Бельгии, поздно-поздно вечером Лёва будет уже в Париже, а завтра рано-рано утром уже начнет думать о Сорбонне и готовиться к экзаменам, штудируя латынь и историю, особенно период Ренессанса, по которому, по замыслу папы Федора, он должен был получить ученую степень, прежде чем возвратиться победителем в Россию, в которой должен будет начать процесс возрождения отечественной культуры. «Кто будет стирать тебе в этой чертовой Франции носки…» – украдкой плакала мать, пока Федор произносил возвышенную тираду.
Рубинштейн поднялся медленно и тихо, раздумывая о вчерашнем, о странной записке, о внезапном приезде Доменик. Какая она? Похожа ли на женщину с картины? Ее взгляд был по-прежнему устремлен на него. И словно шевелились листья сада. Они шевелились и за его спиной, потому что он уже спустился по лестнице и сел рядом… Рубинштейн подошел к картине и среди растений сада увидел одно, художник выписал его тщательнее других – узкие лодочки листьев, коричневые шарики еще-не-плодов… Вчерашний день, и чаща, и то низкорослое деревце, жгучий отвлекающий куст, конь… Мазки, крупные и мелкие, со следами кисти. «По ту сторону картины», – шевельнулось. Холст висел на стене, а стена выходила на запад, где через дорогу, за полем, был лес.
Он спустился по лестнице и пересек дорогу, повернул налево и через поле, через фламандское поле вышел к вчерашней роще. Весна, самодостаточная и дразнящая, встретила его. Ломая прошлогодние сучья, царапаясь о ветки, из-за набухших почек выставлявших острые шипы, он стал пробираться между деревьев. «Здесь? Нет, сюда». Наклоняясь, он шел то вправо, то влево, разгребая ветви руками, обдирая, пытаясь вспомнить свой вчерашний путаный маршрут. «Поваленное дерево? Нет, это потом… Было какое-то высокое тюльпанное, как у Гогена». Листва больно хлестала его по щекам. Он вдруг споткнулся о вытянувшийся незаметно корень и больно упал. «Фарс…» Колено ныло, он сел и засучил штанину, бледная пленка полупрозрачной кожи, скукоживающаяся поперек уже намокающей ссадины. «Фарс, над которым бы надо плакать, а не смеяться…» Наклоняясь над раной, он все же едко и больно засмеялся. «А может, и хорошо, что сквозь этот смех мало кто разглядит кожу, пошедшую на шумовой барабан». Он вдруг ощутил слабый, едва уловимый запах и повернул голову. Поломанные ветки, он взял одну – рыжие волосинки, зацепившиеся за маленький сучок. Поднялся. «Конь…» Прихрамывая, Лев пошел через поломанную то тут, то там зелень и увидел – растение, странное, невысокое, те же узкие листья, те же маленькие коричневые бутоны, готовые вот-вот распуститься.
Он вышел из леса и вернулся в дом Элоизы. Было жарко (был уже полдень), и солнце накалило дом. Элоиза любила жару, и крыша была покрыта жестью вместо черепицы, специальное устройство проводило тепло даже в нижние этажи. Лёва представил себе прокаленный железный короб автобуса, который будет протаскивать его через жару в Париж (он еще не знал о кондиционерах, ватерклозетах и телевизорах в двухэтажных, комфортабельных автобусах Запада), и решил принять холодный душ, а потом, быстро позавтракав и собрав вещи, еще немного прогуляться. Он долго и блаженно фыркал под струями, подставляя шумящему напору то спину, то живот, поднимая вверх то одну пятку, то другую, отдаваясь саднящему водяному ежу, ощущая себя кожей, радуясь здоровым ощущениям холода и чистоты, клубящимся в его теле. Наконец он почувствовал, что замерз, и выключил воду. Стал быстро и энергично растираться махровым полотенцем с красными и синими огурцами. Он оделся в чистое, белоснежные маечка и трусы, гарнитур, заботливо выстиранный мамой. Комнатка душа располагалась напротив комнатки Элоизы, и, проходя мимо, Лёва вдруг вспомнил странные слова матери о том, что никто никогда не заходил в спальню Элоизы, кроме нее самой. «Что может быть там?» Он осторожно, на цыпочках, оставляя босые следы, подкрался к двери. Пробило три четверти второго. «Еще два часа», – успокоил он себя. И нажал на позолоченную ручку.
Девушка сидела в кресле. Она затягивалась сигаретой. Синий дым. Усмешка, раздевающая до конца. Она как будто бы ждала Рубинштейна, она как будто не ошиблась. Ее коротенькая стрижка, длинный, с горбинкой, нос, странный какой-то взгляд, словно догадывается уже. О чем? О чем догадывается? О том, как будет хорошо, когда глаза будут закрыты и когда слепые картины ощущений, разгораясь и разгораясь… Лёва сглотнул. Плакат был в натуральную величину. «Marlboro» – мелко было написано на пачке, которую она держала в руках. «Silvia Ting Rock Band» – крупно и красно под ногами. Лёва вошел. Музыкальный центр с огромными колонками, фотографии каких-то панков на велосипедах, цепи, четырехрукий медный Будда, на гвозде под потолком корзиночка с цветами, на столике кальян, какая-то тахта под белым строгим покрывалом, совсем не вписывающимся в интерьер. «Доменик! – Рубинштейн вздрогнул. – Это же ее комната! А та?!» Он задрожал от возмущения. «Неужели старуха… И то – ее постель?! Гадина!! А я еще хотел душиться духами из флакончика… – Он злобно засмеялся. – Душиться – задушиться». Хотел плюнуть, но пол был чист. Задумавшись, он опустился на тахту. «Значит, отец был прав… – раскручивалась мысль. – И вся эта… та история… О господи!» Четырехрукий Будда медно улыбался. Слепые, обращенные вовнутрь глазницы. Лёва откинулся и, заложив под голову ладони, посмотрел в окно. Идеальное круглое облако проплывало над лесом. Он долго смотрел, как оно, едва меняя форму, исчезает. Вереницы воспоминаний, картины детства встали перед ним, как собирали вишни глазастые, как в ледяной лежал пещере, как пускал в мигающих ручьях кораблик из бумаги. Зачем? Зачем все это? Если это было так изгажено, если в детстве эта тетка просто дергала его за… Он не заметил, как закрыл глаза и задремал.
– Чтобы любить, – сказала Доменик.
– Чтобы любить? – переспросил.
– Да.
Сбросив легкую ткань, она наклонилась и присела над ним. Он изогнулся, желая поцеловать ее в шею.