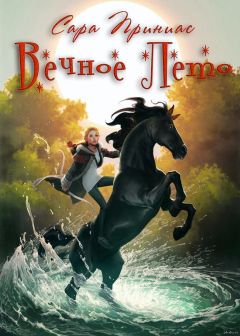– Врешь! – крикнул Портос.
– Не хочешь – не верь, твое дело, – невозмутимо отвечал Атос. – Ты только что изменил слову мушкетера, но я-то, по счастью, чести своей не ронял. Словом, потом подруги взялись за д'Артаньяна: он очень мил, сказала Миледи, с таким не грех слегка поиграть. А в общем – безобидный малыш…
Мы с Портосом ободрили друг друга взглядом и робко улыбнулись.
– А ты? – недоверчиво спросил Портос. – О тебе-то они что сказали?
– Да в этом-то вся загвоздка, – заявил Атос. – Обо мне они говорили долго. Похоже, Миледи за что-то ненавидит меня. Она не сказала обо мне ничего дурного, совсем напротив. Но все равно она ненавидит меня. И не успокоится, пока не отомстит мне, сказала она. Но причину ненависти не выдала.
– Не иначе, это просто любовь, – сказал Портос, подмигивая мне. – Ясное дело, она в тебя влюблена!
Атос пожал плечами:
– Возможно!
Мы долго стояли под фонарем у калитки Атоса и все говорили и говорили об одном. Я не хотел отказываться от чести по-прежнему слыть любовником Миледи: визитная карточка, сердце на дубовой коре – всего этого не сбросишь со счета, да и говорить с ней из всех нас довелось мне одному. А все же это не доказательство, твердил Атос. Подразумевалось, что истинное доказательство любви Миледи у него в руках, но он его не откроет; попробуйте-ка угадать, сказал он. И мы наперебой стали гадать и фантазировать; и долго еще, бледные и до смерти усталые, стояли мы в зеленом свете фонаря. Но прекратить этот разговор мы были не в силах. Портос исступленно вращал белками глаз; обняв фонарный столб, он изображал, будто целует Миледи; под конец он прутом нарисовал что-то на тротуаре и ржал при этом как лошадь. Тут в доме распахнулось окно, и отец Атоса крикнул: «Вы что, не знаете, что скоро Десять?» Мы правда не знали, что уже так поздно, – в ужасе переглянувшись, мы бегом ринулись по домам, а сердце, казалось, колотится в горле.
На другой день Атос был мрачнее тучи. На большой перемене он молча сидел на мусорном баке в углу двора и хмуро жевал свой завтрак, а вечером, когда мы зашли за ним, не хотел идти с нами. Ни в пещеру, ни стоять на страже у дома Миледи – ничего он не хотел. Он опустил штору на своем окне и сидел на плюшевом зеленом диване, поджав ноги и обхватив руками лодыжки, о чем-то размышляя. Временами его одолевала усталость, и он насилу удерживался, чтобы не уснуть. Мы с Портосом сразу смекнули, что все это из-за Миледи, должно быть, опять что-то такое стряслось, но нам пришлось долго перешептываться в полутьме за спущенной шторой, прежде чем мы вытянули из него правду: он проглотил семена желтой акации, оставшиеся с прошлого года. Проглотил их потому, что хотел умереть смертью стоика. Ведь случилось самое страшное, что только могло случиться: он сам – наш Атос – дрогнул. Чаровница пустила в ход новые дьявольские ухищрения, чтобы околдовать его, и отныне он уже сам за себя не отвечает. А раз так, то, как человеку чести, ему оставалось одно – слопать желтую акацию. Только вот, судя по всему, семена не оказали должного действия – видно, высшие силы не склонны избавить его от ада любовных мук. Что ж, в таком случае он до дна осушит чашу страданий и даже покажет нам, что увидал нынче утром по пути в школу.
Оседлав велосипеды, мы медленно покатили к улице Стенгаде: впереди – Атос, за ним – Портос и я. На углу той улицы, у самого рынка, жил фотограф – здесь Атос остановился и прислонил велосипед к тумбе у обочины тротуара. Он ничего не сказал, да ничего и не надо было говорить. Потому что на самой середине фотовитрины висела Миледи. Два длинных локона змеились у нее на груди, даже отдельные волоски и те можно было различить. И еще можно было различить круглую ямочку на шее, и мягкие очертания чуть запрокинутой головы, и темные кудряшки на лбу, и ох! – эти испепеляющие карие глаза, насквозь пронзавшие нас, отважных храбрецов – Атоса, Портоса и д'Артаньяна.
У каждого из нас упало сердце, грудь налилась свинцом, нечем стало дышать. Лицо Портоса расплылось в дурацкой улыбке, Атос прокашлялся и стиснул зубы.
– По коням, друзья! – в конце концов крикнул я, и, оторвавшись от жуткого зрелища, мы вскочили на наших породистых скакунов и бешеным галопом унеслись домой, к нашей пещере. Мы с Портосом совершенно раскисли и решили допить початую бутылку плодового вина, которую давно здесь прятали.
– Мы погибли, друзья! – вскричал я. – Все трое мы любим ее! Так вкусим же смерть от багряного испанского вина, умрем за нашу прекрасную жестокую Миледи!
Но Атос опустил свой кубок.
– Нет! – твердо произнес он. – Честь мушкетеров повелевает нам биться до последнего! Вспомните обо всех неокрепших душах, которые погубит эта дьяволица своим портретом! Выход один – мы должны этой же ночью похитить и уничтожить портрет!
Мы с Портосом прокричали в хмельном восторге:
– Ура! Пьем за похищение Миледи!
Но тут же вспыхнул яростный спор из-за права на этот портрет -Атос хотел запереться наедине с ним и собственноручно сжечь его, на нас с Портосом он не полагался.
А мы не полагались на него. Каждый из нас хотел заполучить портрет. «Что ж, потом скрестим из-за него шпаги», – решил Атос и в мельчайших подробностях стал излагать план похищения, включавший пункт первый, второй и третий. Пункт первый: Портос вскрывает витрину ломиком. Второй: я перочинным ножом вырезаю портрет Миледи – и третий – передаю его Атосу, который должен стоять на страже чуть поодаль. Затем мы все разбегаемся в разные стороны, дабы сбить со следа агентов кардинала. Под конец Атос взял с нас клятву, что мы не выдадим нашей тайны ни при каких обстоятельствах, даже под пыткой в застенках полиции.
– Кажется, все случайности предусмотрены, – сказал он и снова задумался. – Что ж, господа, до встречи – за полчаса до полуночи…
Да, все случайности предусмотрены, но и на сей раз события разыгрались отнюдь не по плану, включавшему пункты первый, второй и третий. Вся операция с самого начала складывалась хуже некуда. Не за полчаса, а за полных три часа до полуночи выступили мушкетеры на дело, потому что Портосу как следует досталось от отца и тот запретил ему возвращаться домой позже половины десятого. Стало быть, мы подошли к витрине фотографа и приступили к осуществлению операции почти при дневном свете. Полным-полно было людей на рыночной площади, а напротив рынка располагалась стоянка автомобилей, да еще, пока мы ждали, чтобы хоть немного сгустились сумерки, прямо над нашими головами засветилась большая дуговая лампа.
– За дело! – сказал Атос.
И все же, при всей нелепой его дерзновенности, похищение, возможно, даже удалось бы, не возись мы так долго. Но как только затрещало стекло витрины, Портос совсем ошалел от страха: спрятав ломик под курткой, он бросился в ближайшую подворотню. Минут пять мы все трое стояли там и тряслись, затем решились вновь попытать счастья. И снова повторилось то же самое. На третьей попытке из-за угла вдруг вынырнули двое полицейских. Они были уже в трех шагах от нас, когда мы их заметили. Атос, стоявший на страже, оцепенел от ужаса и даже не пикнул.
– Вы что тут делаете? – спросил полицейский.
Атос ответил:
– Ничего.
Но Портос посерел лицом, губы у него задрожали, да и ломик в его руках всем был виден.
– Дай-ка лучше эту штуку сюда, дружок, – сказал один из полицейских и отобрал у Портоса ломик.
На всем пути к участку полицейские держались с нами весьма приветливо и миролюбиво. Один из них шагал между Атосом и мной, другой шел впереди, дружески опираясь на плечо Портоса. Может, они сочли его самым опасным из всей троицы – в конце концов, он ведь орудовал ломиком, да и выглядел старше нас обоих в своей щегольской куртке. Всю дорогу ни мы, ни полицейские не раскрывали рта, но я с ужасом думал о том, что же будет с нашим обетом молчания.
Ничего хорошего и не было: еще только завидев зеленый фонарь полицейского участка, Портос разрыдался, а уж сидевший наготове внутри, за барьером, дежурный сержант – человек с густыми, как барсучья шерсть, волосами, – взглянув на него сквозь очки в золотой оправе, сразу же понял, что его надо допросить первым. Нам же с Атосом не позволили при сем присутствовать, а отвели нас в пустое белое помещение с кожаными нарами у стены. Мы тотчас прильнули ухом к двери, и нам многое удалось расслышать из того, что говорилось в соседней комнате. Мы слышали стук пишущей машинки и рыдания Портоса, которые то стихали, то возобновлялись с новой силой, и сержант сказал ему: хватит, успокойся. Ничего тебе не будет, только чистосердечно во всем признайся…
– Да я же не ви-ви-виноват, – прорыдал Портос, – это все Йохан…Йохан Бертельсен… да-да, тот рыжий… Он сказал, что хочет сжечь портрет… Да-а-а, потому что он в нее втрескался… Не знаю, зачем сжигать, у него не все дома. Вообразил, будто он Атос… Да-да, Атос из «Трех мушкетеров»…
Мы с Атосом переглянулись.