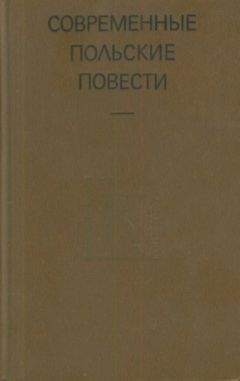— Почему же Вонсицкий (то есть ветеринар) не дал ему никакого лекарства?
— У него зубов нема, — ему лекарство не поможет.
— А по ночам еще по саду шастает.
— Не только по ночам, он и днем подойдет к забору и все глядит на наших лошадей.
— На каких это «наших»?! — раздраженно переспросил Игнаций.
— Да пана Мазуркевича, из «Отдыха в седле».
— Значит, они для тебя уже «наши»?
— Да ведь я там работаю.
— По раньше-то ты у меня работал.
— А теперь-то там, — как бы простонал Михал.
— И до сих пор еще у меня работаешь.
— Да какие тут дела при доходяге этом? Много ли ему нужно.
— Напоил его?
— Он в речке напился.
— А больше не хотел?
Оставив и этот вопрос без ответа, Михал лишь пристально посмотрел на папа Игнация.
— Одолжите нам то седло, что у вас в кладовке лежит.
— Какое еще седло? — Игнаций не сразу сообразил, о чем речь.
— Ну, то, ладное, красивое. В самый раз будет для молодого пана, что с нашей Еленой приехал.
— Да кто он такой?
— А я почем знаю? Его все паном Себастьяном зовут.
Игнаций помнил это свое, еще довоенное, седло. Ему делал его на заказ седельник Тшинский с Трембацкой улицы. Замечательное седло. А было это вскоре после смерти деда, и у Игнация тогда водились деньги.
— Значит, он приехал к вам в «Отдых»?
— Ну да, тренером станет у нас работать. Он знаток по этой части.
— А откуда он?
— Кто его знает. Поди, из Варшавы.
— С Еленой приехал?
— Говорят, уже полгода с ней живет.
— А как же муж?
— Да что муж? Сами знаете, какую они нынче моду взяли. Раз в костеле не венчаны, он ей вроде и не муж. Отправила его на машине рыбу ловить, а сама сюда подалась, на лошадях кататься.
— Разве она ездит верхом?
— Сегодня в первый раз на лошадь села. Ей тоже седельце бы сгодилось.
— Заладил: седло да седло!
Михал похлопал Билека по тощей шее.
— Спи, Билек, спи, — сказал он. — Тебе уж никакое седло не понадобится.
— Типун тебе на язык! — рассердился Игнаций.
— Право слово, ему уже недолго осталось.
— Знаешь, Михал, — сказал Игнаций другим, задушевным тоном, — я давно уже никого не любил так, как эту лошадь.
— Люби не люби, а смерть все одно отымет, — назидательно произнес Михал и выпрямился.
Игнаций пошел было к двери. Потом приостановился и, смущенно улыбаясь, сказал:
— Михал, принеси мне, как обычно, ладно?
— Принесу, отчего ж не принести, — сообщнически ухмыляясь, ответил тот. — Сколько?
— Литра хватит, — как-то стыдливо сказал Игнаций. Он направился к двери; от конюшни к дому дорога шла в горку через сад. В саду повстречал он Елену, — легкая, плавная походка придавала ей особую прелесть. Высокая, статная, она торжественно несла над собой зонтик, словно красный балдахин.
— Как хорошо, что я тебя встретила, дядя, — сказала она, и на Игнация повеяло от нее жаром, как от раскаленной печки. — Себастьян спрашивает, может ли к тебе зайти Подлевский, — ну, тот, который из Швейцарии приехал. Он был коротко знаком с его отцом.
— Подлевский в Польше? — спросил Игнаций.
— Он каждый год приезжает. У него мать в Кракове живет, и он, как примерный сын, навещает ее.
— А чего ему от меня надо?
— По правде говоря, — с простодушной улыбкой сказала Елена, — ему хочется увидеть «Купание коней».
— «Купание коней»? Откуда же ему известно, что картина у меня?
— Как откуда? Это всем известно.
— А когда он собирался зайти?
— Да прямо сейчас. Он в Варшаву торопится. Елена пошла было дальше той же дорогой.
— Куда ты? — спросил старик.
— Тут в заборе есть лаз, надо только доску в сторону отвести — так ближе всего в «Отдых».
— Все-то ты знаешь, — проворчал Игнаций.
В глухом углу сада росло ореховое дерево, единственное уцелевшее из тех, которые дед Игнация привез из Парижа. На нем вызревали на редкость крупные грецкие орехи, а ветви с продолговатыми темно-зелеными листьями сплетались в плотную крону, как на картинах XVII века. Другого такого дерева не было во всей Кукулке.
Под орехом стояла старинная чугунная скамья, из тех, что используют при киносъемках, чтобы воссоздать атмосферу эпохи. Пан Игнаций с Еленой присели на эту скамейку.
— Дорогая… — начал Игнаций, пристально глядя па блики, которые щедро рассеивало солнце, пробиваясь сквозь густую листву; трепетали они и на серебристом Еленииом платье. — Я, конечно, очень рад твоему приезду, но ты вносишь столько… беспокойства…
— Дядюшка, — перебила его Елена, — радость доставляет это прежде всего мне. А что касается беспокойства, я поступаю так намеренно. Нельзя жить затворником, нелюдимом, как живешь ты. Игнаций засмеялся.
— Дорогая, — продолжал он, — ни люди, ни общество мне не нужны. Я стар уже. Неужели ты этого не понимаешь? Я свою жизнь прожил. Хорошо ли, плохо ли — не имеет значения, но все уже позади, и у меня больше нет никаких желаний…
— А ты уверен в этом, дядюшка? Как же так, никаких желаний?
— А вот так…
— А новую лошадь тебе разве не хочется купить? Посадить еще ореховых деревьев? Полюбоваться и на другие картины, а не все только смотреть на этот мазовецкий пейзаж.
— Для тебя это просто мазовецкий пейзаж, а для меня — вершина нашего искусства. Меня эта картина притягивает, я в ней растворяюсь и часами просиживаю перед ней.
— Признаться, я этого не понимаю. — Елена вздохнула и привычным жестом поправила в волосах пунцовый мак. — А тебе не хочется, к примеру, поехать в Рим, в Париж?
Игнаций взял Еленину руку в свою.
— О чем ты толкуешь? Старость — это сон, оцепенение. Спать — вот единственное мое желание, спать и больше ничего.
— Это никуда не годится, дядюшка. Так нельзя.
— Я ощущаю вокруг себя пустоту. Но самое скверное, что внутри у меня тоже пусто. Как в риге перед жатвой…
— Но ригу можно наполнить… снопами.
— Теперь снопы машина связывает веревкой, а не перевяслом.
Игнаций встал. Елена посидела еще с минуту. Знала, что эффектно выглядит в солнечных бликах под старым ореховым деревом. Среди продолговатых листьев виднелись большие твердые шарики зеленых плодов. Потом она тоже встала и пошла в сторону «Отдыха в седле». А Игнаций медленно поплелся к дому.
«Какие-то планы вынашивает она в красивой своей головке, — подумалось ему. — И куда это Михал запропастился? Ох, до чего же тошно…»
Со стороны сада к дому была пристроена небольшая деревянная веранда. На балюстраде висели связки чеснока, лука, сушеных грибов. А на перилах дозревали помидоры.
Игнаций опустился в продавленное кресло и задумался. Перед верандой было некое подобие круглого газона. И собаки притаскивали сюда кости и клочья бумаги. Вот и сейчас муругий Шарик грыз коровью челюсть.
«Интересно, откуда она у него?» — подумал Игнаций.
На веранду вело несколько деревянных ступенек. Когда Билек был моложе, вспомнил Игнаций, он приходил сюда за сахаром. Бывало, поднимется осторожно на две ступеньки, на третьей остановится и ждет. Потом, едва касаясь ладони бархатистыми губами, берет кусочек сахара.
Вскоре со стороны главного входа послышались голоса. Ему не хотелось двигаться, но оживленная, разрумянившаяся Елена чуть не насильно заставила его подняться с продавленного кресла.
— Дядя, вставай, — сказала она. — Подлевский пришел.
В столовой он застал высокого, элегантно одетого пожилого мужчину с проседью в волосах. На нем все было заграничное. И даже выговор, хотя по-польски изъяснялся он правильно, был у него словно заграничный. И манера выражаться очень старомодная.
«У нас уже так не говорят», — промелькнуло в голове у Игнация.
— Простите великодушно, что осмелился потревожить вас в вашем тускуле,[3] куда еще знаменитый дед ваш скрывался из Парижа от суетной славы.
Подлевский произнес «Пагижа», словно мысленно переносясь туда, хотя вообще-то говорил не грассируя.
— Но мне бы очень хотелось, — продолжал он, — увидеть знаменитую картину вашего деда. Она как будто все еще находится у вас?
Пан Игнаций несколько опешил.
— Да, у меня, — сказал он. — Висит в гостиной. Гостиной Игнаций по старой памяти называл комнату
направо из сеней, рядом с его спальней.
— Присядьте, пожалуйста, — раздался сытый, звучный баритон Себастьяна.
Игнаций только сейчас заметил молодого человека и окинул его взглядом. Он был вызывающе, прямо-таки до неприличия красив.
— Тогда лучше в гостиной посидим перед картиной, — предложила Елена. — Прошу сюда!
Стройная, красивая — само очарованье, будто в волшебную страну, ввела она мужчин через сени в «гостиную», где висела чудесная эта картина.
Подлевский, однако, не присел на диван: он остановился перед картиной и воскликнул вполголоса: