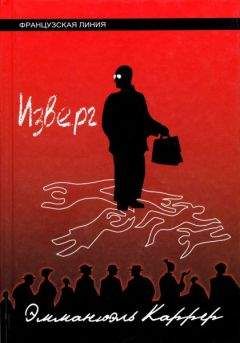Предвкушение этой сцены, удовольствие, с которым он собирался следить за ней и за возможными промахами участников, рассеяли овладевшее было им замешательство. Вспоминая все случившееся, он уже дивился своей недавней панике и упрекал себя за излишний пессимизм; впрочем, даже эта паника прекрасно вписывалась в сценарий начатой игры, и ему задним числом казалось, что он и панику-то изображал притворно. Ощупав лицо, он вытянул шею, стараясь разглядеть себя в зеркальце. Н-да, видик у него тот еще: верхняя губа посреди смуглого лица напоминала цветом болезненно-бледный парижский шампиньон; но ничего, они и над этим позубоскалят, а место под носом скоро загорит, остальной же загар побледнеет, да и усы к тому времени отрастут, и вообще, единственный повод для раздражения — коли уж он решил сыскать таковой — это наглец водила, ехавший за ним следом и успевший втиснуться на свободное место, пока он занимался изучением собственной физиономии.
Серж с Вероникой оказались на должной высоте. Ни удивленных взглядов, ни нарочитого безразличия; они взирали на него абсолютно спокойно, как всегда. Нельзя сказать, что он не пытался их спровоцировать: например, вызвался помочь на кухне и, оставшись наедине с Вероникой, восхитился тем, как она прекрасно выглядит. Вероника тут же вернула ему комплимент: «А ты здорово загорел; вам, наверное, повезло с погодой, ты тоже в отличной форме и вообще совершенно не меняешься!» За ужином все четверо болтали о лыжах, работе, общих друзьях, новых фильмах, и беседа эта текла так естественно, что шутка, чем дальше, тем больше, теряла свою остроту, словно карикатура, слишком похожая на оригинал и оттого вызывающая не столько смех, сколько одобрение. Эта безупречная игра заранее отравляла ему удовольствие ожидаемого финала; он уже почти сердился на Веронику, которую считал самым слабым звеном в цепи заговора и которая тем не менее держалась как кремень. И никто из них не клевал на его приманки, от раза к разу все более откровенные, — например, когда он заводил речь об «оголенном» социализме, навязанном Франции правительством Фабьюса, или об усах, пририсованных Марселем Дюшаном Джоконде; все эти коварно задуманные намеки словно проваливались в пустоту, и он чувствовал себя обиженным, точно ребенок, который, получив отличный аттестат, хочет, чтобы на семейном обеде, устроенном в его честь, все говорили только об этом достохвальном событии, и недоумевает, отчего взрослые, поздравив его с успехами, тут же отворачиваются и заводят посторонние разговоры. Он приналег на вино и вдруг поймал себя на мысли, что и сам в какой-то миг забыл о сбритых усах, так же как о притворном небрежении остальных, и торопливо глянул в зеркало над камином, желая убедиться, что все это ему не примерещилось, что удивительный, но игнорируемый всеми феномен по-прежнему существует, так же как и мистификация, чьей добровольной жертвой он стал, уже тяготясь ею, словно прима, которой обрыдла партия Арлезианки. Стойкость окружающих еще больше удивила его после ужина, когда слегка захмелевший Серж разругался с Вероникой буквально на пустом месте — трудно было понять, из-за чего именно. Такие ссоры возникали у них сплошь да рядом, и никто не придавал им особого значения. У Вероники был скверный характер, и Аньес, знавшая ее с незапамятных времен, открыто насмехалась над выходками разъяренной подруги и ее демонстративными уходами в кухню, куда шла за ней следом, чтобы подлить масла в огонь. Однако эта супружеская сцена заслонила собой комедию с игнорированием сбритых усов, что поначалу казалось вполне нормальным, но стало выглядеть очень странным позже, когда инцидент был исчерпан. Ибо напряжение, вызванное ссорой, разрядилось не сразу, и, по логике вещей, оскорбленная Вероника, упорно дувшаяся на мужа, должна была решительно отказаться от своей роли в спектакле, державшемся именно на общей солидарности участников. Тем не менее она этого не сделала. Он попытался найти средство вынудить ее расторгнуть пакт, о котором она в гневе, видно, совсем забыла, но ему приходили на ум только неуклюжие, беспомощные намеки, совершенно недостойные игры, которой Аньес наверняка уготовила куда более блестящую развязку. Вероника тем временем явно давала понять, что с нее хватит и что она ждет лишь ухода гостей, дабы опять сцепиться с мужем наедине; в общем, стало ясно, что финала не будет, что заговор не состоялся и никто, вопреки его надеждам, не собирается с радостным смехом и взаимными поздравлениями комментировать ситуацию. И вновь его уколола детская обида, вновь проснулось раздражение. Теперь, даже если он и найдет остроумный способ вернуть дело к отправной точке, у него нет никаких шансов на то, что его «выход на сцену» встретит горячий прием — скорее наоборот, все удовольствие от розыгрыша давным-давно улетучилось, сменившись неподдельным, оскорбительным для него равнодушием.
Даже в машине Аньес не подумала возвращаться к этой теме. Она, без сомнения, жалела о том, что шутка затянулась, что, прощаясь у лифта, они все молчаливо решили предать ее забвению; однако сожаления своего не выказывала, а весело вспоминала прошедший ужин и сварливый нрав Вероники, в общем, злословила вовсю. И хотя он уже не надеялся на ее раскаяние, это упорное нежелание затронуть, пусть вскользь, их маленький вечерний заговор показалось ему прямо-таки вызывающим, как будто она вдобавок ко всему мстила ему за провал своего розыгрыша. Но он не мог долго сердиться на Аньес, ему хотелось любить ее без всяких задних мыслей, пусть даже мимолетных; да их любовь и в самом деле всегда шла об руку с чувством юмора «для семейного употребления», и этот юмор нередко помогал избегать серьезных конфликтов. При такой безобидной, в сущности, размолвке малейшая уступка с ее стороны должна была бы удержать его от раздражения. Между тем поведение Аньес раздражало его, более того, вызывало какую-то необъяснимую тоску, смутное чувство вины, преследующее его с того момента, как он вышел из ванной. Разумеется, это было смешно, нелепо, он вполне мог продлить игру еще на пять минут, если это забавляло Аньес, но в конечном счете он потом будет ее же упрекать за все, так не лучше ли покончить с недоразумением прямо сейчас? Конечно, первый шаг был за ней, и тем хуже, если, выдержав столь длительную паузу, она произнесет всего лишь банальное «А знаешь, неплохо получилось!», но пусть хотя бы скажет это ласково. Может, она считает, что отсутствие усов обезобразило его? Ладно, главное, чтобы она заговорила. Но она явно не желала говорить. «Вот упрямая башка!» — подумал он.
Уже несколько минут Аньес молчала, скучающе глядя вперед и всем своим видом осуждая его за невнимание. Он обожал ее вот такой, с нахмуренным лбом под челкой, с гримаской обиженной маленькой девочки. Все его недовольство мигом испарилось, сменившись чуть насмешливой нежностью взрослого, понимающего, что самое разумное — уступить капризу ребенка.
Остановив машину на красный свет, он нагнулся к Аньес и губами, едва касаясь, обвел контур ее лица. Она запрокинула голову, открывая поцелуям шею, и он заметил ее торжествующую улыбку. «Ладно, твоя взяла!» — едва не сказал он вслух. Но вместо этого потерся, сплющив нос, выбритым местом об ее щеку и, добравшись до уха, шепнул: «Ну что, чувствуешь разницу?»
Аньес легонько вздохнула, и ее рука легла на его ногу; увы, зажегся зеленый свет, и ему пришлось включить первую скорость. Когда они проехали перекресток, она вполголоса спросила:
— Какую разницу?
Он прикусил губу, стараясь сдержать злость.
— Ну ты даешь!
— Что я «даю»?
— Слушай, может, хватит? — взмолился он с комическим отчаянием.
— Да что «хватит», что случилось?
Обернувшись к нему, Аньес глядела с таким непритворным, ласковым, чуть встревоженным любопытством, что он почувствовал: еще минута, и он разозлится на нее всерьез. Ведь он сам сделал первый шаг, уступил по всем пунктам, так должна же она понять, что это уже не смешно, что он намерен спокойно обсудить с ней ситуацию. Изо всех сил стараясь сохранять тон взрослого, вразумляющего капризную девчонку, он высокопарно объявил:
— Самые удачные шутки — короткие шутки!
— Какие такие шутки?
— Ну хватит! — оборвал он ее с яростью, которой тут же устыдился сам. И добавил чуть мягче: — Довольно!
— Чего довольно?
— Хватит, прошу тебя. Прекрати это, пожалуйста.
Он уже не улыбался, она тоже.
— Вот что, остановись-ка! — сказала она. — Сейчас же. Здесь!
Он понял, что она имеет в виду машину, резко свернул к обочине, притормозил прямо у автобусной остановки и заглушил мотор, чтобы подчеркнуть всю серьезность своего намерения покончить с этой историей. Но Аньес опередила его:
— Объясни мне, что с тобой творится?
Она казалась такой растерянной, такой шокированной, что он на миг усомнился в самом себе и подумал: а вдруг она по какой-нибудь невероятной причине и впрямь ничего не видит? Но какая же причина могла помешать ей? Нет, глупо было даже задавать этот вопрос и себе и, главное, ей. И все-таки он спросил: