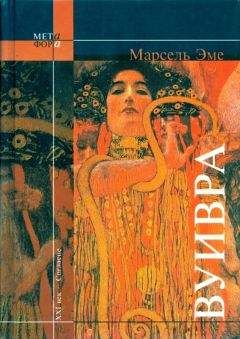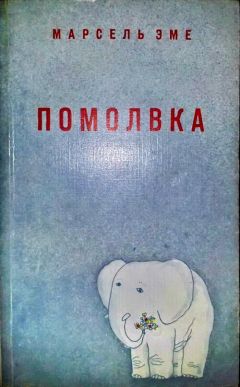— Как приятно, — говорил Аристид, — что мы помолвлены и что ваши ляжки сжимают мне бока. Я ощущаю в области живота необычайную теплоту, которая растекается по всему телу и доходит до самой головы. Папа часто говорит мне о душе, но я никогда так живо не ощущал, что она у меня есть. А вы?
— Ах, — сказала Эрнестина, — мне кажется, будто я лечу к звездному своду на лазурных крыльях счастья. А моя душа кажется мне радужным шаром, который парит в мягком весеннем воздухе.
— В самом деле? Это любопытно. Своей души я не вижу, но я ее чувствую всем телом и, как я вам уже сказал, особенно в области живота. Сожмите меня ляжками как можно крепче. Ах, как мне хорошо! Внутри у меня все горит.
— У меня тоже, — прошептала Эрнестина.
Беседуя таким образом, они достигли ограды парка и некоторое время скакали вдоль нее, пока не очутились у ворот, загороженных решеткой. Очевидно, в прежнее время через них выезжали в поле телеги, но теперь ими уже не пользовались. Приумолкший кентавр открывал мир сквозь прутья решетки, и то, что ему удалось увидеть, показалось ему таким прекрасным, что слезы навернулись ему на глаза. Поля, луга, рощи, долины уходили в глубокие дали, а у горизонта земля сливалась с небом. Решетка была на замке, но Аристид, вооружившись толстой палкой, как тараном, сорвал его без особого труда.
— Эрнестина, — сказал он, когда они миновали ворота, — я свободен, и вы сидите у меня на спине. Я не представлял себе такого чистого счастья, такого певучего опьянения. Теперь я вижу, что и моя душа — радужный шар, как и ваша. И я не понимаю, что меня заставило говорить вам о моем животе, когда речь у нас была о любви. Это бессмысленно и даже, мне кажется, непристойно. На самом деле моя любовь — тоже радужный шар. А может быть, моя душа и моя любовь — это один и тот же радужный шар, который стремится к небу.
— Тем лучше! — сказала Эрнестина.
Оставив ворота позади, кентавр пустился вскачь по полям и лугам, занимая свою наездницу нежными и изысканными речами. Пересекая какую-то дорогу, они увидели жандарма на велосипеде. При виде получеловека-полуконя в шляпе канотье, он почуял какое-то неуважение к законным властям. Он спешился и спросил агрессивным тоном:
— Куда вы направляетесь?
— Мы бродим по свету, — отвечал Аристид, — без всякой цели и необходимости и время от времени, ради удовольствия, оборачиваемся назад, чтобы измерить путь, пройденный нашей любовью. За нами следуют или нам предшествуют два радужных шара, которые уже породнились.
— Бумага у вас есть?
— Нет, — сказал Аристид: он не понял вопроса жандарма. — Вам нужна бумага?
— Предупреждаю вас, что мне не до шуток. И прежде всего я составлю на вас протокол за оскорбление общественной нравственности.
— Ваши слова меня беспокоят, но я не вполне улавливаю их смысл. Что это, собственно, значит — общественная нравственность?
— Не прикидывайтесь дурачком. Вам прекрасно известно, что закон воспрещает людям выставлять себя напоказ перед прохожими в обнаженном виде. А ну-ка, следуйте за мной в участок.
Аристид не на шутку перепугался, он уже видел, как закон набрасывает свою мрачную тень на вольное существование, о котором он так давно мечтал.
— А я не человек, — сказал он, превозмогая чувство унижения, — я лошадь.
Сбитый с толку жандарм изо всех сил напрягал мозг, но, поняв, что ему в этом не разобраться, поехал дальше, окинув кентавра подозрительным и осуждающим взглядом. Аристид тоже тронулся в путь, опустив голову; он призадумался и не говорил ни слова, как будто забыв, что несет на спине свою любовь. Вид его в конце концов насторожил Эрнестину, и она спросила его, уверен ли он, что действительно ее любит.
— Больше всего на свете, — отвечал он, — я так уверен в своей любви, что даже не считаю нужным говорить вам о ней.
Доехав до угла изгороди, вдоль которой их вела тропинка, они увидели молодую кобылу, которая паслась на лугу, окруженном белым деревянным забором. Аристид пустился в галоп, чтобы поближе ее рассмотреть. Эрнестина ухватилась за него, стараясь удержаться. То была красивая рыжая кобылка изящного телосложения. Она приблизилась к белому забору с небрежным кокетством, но, очутившись возле кентавра, не сумела скрыть своего волнения: сперва она заржала, потом стала перебирать всеми четырьмя копытами. Когда она взвилась на задние ноги, Аристид, потерявший всякое хладнокровие, тоже поднялся на дыбы, не заботясь о своей невесте, которую он при этом сбросил наземь, и поскакал рядом с кобылкой, хотя их разделял забор.
— Аристид! — отчаянно звала Эрнестина. — Аристид! Любовь моя! Моя радужная душа! Мой воздушный двойник!
Но Аристид остановился лишь для того, чтобы отворить калитку и выпустить кобылу, и понесся с ней дальше по направлению к лесу. Эрнестина Годен вернулась в замок и со слезами рассказала о своей неудаче. Барон де Каппадос не скрывал своего удовлетворения; его только интересовал вопрос, чистокровная ли это кобыла.
— Увы, я был прав! — с горьким вздохом сказал монсиньор. — То, что случилось, вполне подтверждает, что у молодого графа доминирует конское начало.
— Да нет, — краснея, запротестовала маркиза. — Это вовсе не доказательство.
— Может быть, может быть, — задумчиво согласился прелат. — Во всяком случае, он вел себя как свинья.
Несчастная Эрнестина зарыдала еще громче, и маркиз де Валорен потрепал ее по щеке и сказал, чтобы ее утешить:
— Успокойтесь, детка. Возможно, это просто каприз, мимолетная прихоть. Я уверен, он к вам вернется.
Но вот уже больше семи недель, как Аристид исчез. Эрнестина Годен вернулась в школу святой Терезы, и никому не известно, что сталось с кентавром, а также с рыжей кобылой, хозяин которой не помнит себя от ярости.