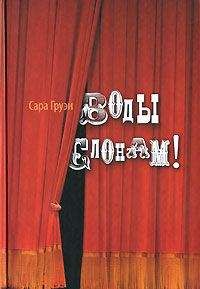— Завидую Хоффмейеру? — сказал дядя. — С чего это я стал бы завидовать Хоффмейеру? — Его рот дернулся. Спинку его кресла украшала салфеточка-подголовник: тетка любила вязать крючком.
— С того, что он открыл новый вид.
Произнося эти слова, я уже понял, что называю не единственную причину для зависти. Другой причиной было то, что Хоффмейер в некотором роде обеспечил себе бессмертие. Человек может умереть, но — во всяком случае, пока существуют открытые им животные — имя его не погибнет.
— Но… Хоффмейер… зоолог. А я? Знай навоз убираю. — Дядя Уолтер вернулся к своему самоуничижительному стаккато.
— Расскажи мне о Хоффмейере.
Имя Хоффмейера, его подвиги не сходили с языка у моего дяди, но о самом человеке не складывалось практически никакого представления.
— О Хоффмейере? Ну… признанный специалист в своей области. Бесспорный…
— Нет — какой он был? — Я сказал "был", хотя и не знал наверняка, что Хоффмейер умер.
— Какой?.. — Дядя, уже поднявший трубку для расстановки ударений и изготовившийся перечислять научные заслуги Хоффмейера, поднял глаза, на мгновение приоткрыв свой влажный рот. Затем, резко сунув трубку обратно в зубы и сжав рукой ее чашечку, стал вымучивать из себя чуть ли не пародию на воспоминания об "ушедшем товарище". — Как человек, ты имеешь в виду? Отличный малый. Кипучая энергия, неугасимый энтузиазм. Никогда не встречал более славного… Мой закадычный друг…
Я начал сомневаться в реальности Хоффмейера. Его действительная жизнь казалась столь же призрачной и неуловимой, как жизнь антилоп, которых он спас от безымянности. Я не мог представить себе этого доблестного ученого. У него была фамилия еврейского импресарио. Я вообразил, как мой дядя приходит к нему и получает антилоп в качестве атрибута для исполнения некоего уникального эстрадного номера.
Я спросил себя: да существовал ли Хоффмейер вообще?
Дядя, странно набычив голову — одна из тех поз, которые заставляли меня думать, что он может видеть мои мысли, — сказал:
— Он ведь и сюда приезжал, гостил у меня. Много раз. Сидел в кресле, где ты сейчас сидишь, ел за этим столом, спал…
Но тут он внезапно оборвал себя и принялся свирепо сосать трубку.
Мои попытки найти подходящую квартиру не имели успеха. По мере моего привыкания к Лондону он становился еще более безликим, более неумолимым. Видимо, этот город не был создан для того, чтобы в нем преподавали математику. Мои уроки философии приобрели более эзотерическую окраску. Особенно мне удавались лекции о Пифагоре, который не только был математиком, но и верил, что следует воздерживаться от мяса и что души людей могут переселяться в животных.
Через месяц после нашей беседы о Хоффмейере дела неожиданно приняли дурной оборот. Самец антилопы заболел чем-то вроде пневмонии, и судьба пары, а также — насколько нам было известно — всего вида казалась решенной. Дядя возвращался из зоопарка поздно, молчаливый, с вытянутым лицом. Спустя две недели больное животное умерло. Уцелевшая самочка, которую я после этого видел, наверное, раза три, робко, тревожно глядела из своего одинокого загончика, точно сознавала собственную уникальность.
Дядя Уолтер привязался к этой последней антилопе со всем пылом овдовевшей матери, изливающей свою любовь на единственное чадо. Его взгляд стал отсутствующим взглядом мученика. Однажды, во время моего воскресного визита в зоопарк (бывало, что между этими визитами я вовсе не встречался с дядей Уолтером), старший смотритель из его секции, грузный, добродушный человек по фамилии Хеншо, отвел меня в сторонку и заметил, что дяде хорошо бы взять отпуск. Похоже, дядя просил разрешения устроить в клетке антилопы постель, чтобы можно было никуда не отлучаться. Ему довольно простого соломенного тюфяка, сказал он.
Хеншо выглядел обеспокоенным. Я обещал как-нибудь повлиять на дядю. Но, насколько я мог судить, у меня было мало шансов сдержать свое обещание. Дядя являлся домой за полночь и, наполнив прихожую тяжелым портерным духом, сразу прокрадывался наверх. Я чувствовал, что он меня избегает. Даже в свои выходные он отсиживался у себя в комнате. Иногда я слышал его бормотание и шаги; в другие часы там царила тишина, как в тюремной одиночке, так что я начинал подумывать, не пора ли мне, ради него самого, заглянуть в замочную скважину или оставить у двери поднос с его любимой клетчаткой. Временами мы все же сталкивались, как бы случайно, на кухне или в гостиной среди его книг. Я спросил у него (поскольку считал, что сквозь его защитную оболочку может проникнуть лишь агрессивный юмор), не думает ли он, что его роман с самкой антилопы зашел чересчур далеко. Он обратил на меня глубоко уязвленный, страдальческий взгляд, его мокрые от слюны губы подрагивали; затем сказал горько, но вызывающе: "Ты говорил с Хеншо?"
Все вокруг словно объединились против него. В те дни он был удручен еще одним обстоятельством: городские власти собирались проложить новую дорогу между двумя магистралями, которая должна была преобразить микрорайон, пройдя по соседству с дядиным домом. Дядя Уолтер получил предупреждение от властей и вступил в группу местных активистов, борющихся против этого строительства. Он называл городских проектировщиков "засранцами". Это удивляло меня. Мне всегда казалось, что он живет в каком-то особом, старозаветном мире, где царит непререкаемый авторитет Зоологического общества, являющегося единственной святыней и единственным судией. Я считал, что, покуда его периодически окутывают теплые ароматы меха и навоза, он не способен замечать грохот движения на Северной кольцевой, визг реактивных самолетов над Хитроу, высотки и эстакады — или обращать внимание на то, что творится около его дома. Но в одно субботнее утро, когда мы (редкий случай) завтракали вместе под рев экскаваторов за кухонным окном, я осознал свою неправоту. В тот раз дядя поднял глаза от своей овсянки с отрубями и пристально посмотрел на меня.
— Не нравится здесь, а? Хочешь небось обратно в Норфолк? — сказал он.
Его взгляд был пронизывающим. Возможно, на моем лице отражалось разочарование Лондоном — или напряжение, которое было вызвано необходимостью делить с ним крышу. Я что-то уклончиво пробормотал в ответ. Снаружи включили какую-то мощную тарахтелку, и чашки на столе задрожали. Дядя повернулся к окну.
— Подонки, — сказал он. — Знаешь, сколько я здесь живу? Сорок лет. Вырос здесь. Твоя тетя и я… А теперь они хотят…
Его голос поднялся, в нем зазвенел пафос. И я увидел в этом человеке, которого уже начал считать почти свихнувшимся, нелепой жертвой его собственных причуд, проблеск истинной жизни, безвозвратно утерянной, словно на миг приоткрылась дверь в камеру.
Я стал гадать, каков же мой настоящий дядя. В этом доме обитал некто, но этот некто не был моим дядей. Приходя из зоопарка, он все более неслышно пробирался в свою комнату. Он начал уносить к себе в спальню отдельные книги по зоологии из своей "библиотеки" в углу гостиной. Еще он забрал снимки жены, стоявшие в рамочках на книжной полке. В три-четыре часа утра я слышал, как он читает нараспев, точно Псалтирь или поэмы Мильтона, пассажи из "Редких видов" Лейна, "Африканских копытных" Эриксдорфа и из труда, на который я уже давно привык смотреть как на дядину библию, — "Карликовых и лесных антилоп" Эрнста Хоффмейера. В промежутках раздавались тирады, направленные против каких-то воображаемых оппонентов, среди которых были члены комитета по градостроительству и "этот дерьмоед" Хеншо.
Им явно овладела параноидальная вера в то, что весь мир настроен враждебно по отношению к антилопе Хоффмейера и стремится ее уничтожить. У него возникла иллюзия — так позже объяснил мне Хеншо, — что, подобно детям, считающим, будто младенцы рождаются лишь благодаря "крепкой любви", он может только силой своей нежной привязанности к самке антилопы продлить существование ее рода. Он стал избегать меня, словно я тоже участвовал во вселенском заговоре. Мы сторонились друг друга на лестнице, как чужие. Наверное, я должен был бороться против его мании, но что-то говорило мне, что я вовсе не враг ему, а напротив — его последний истинный защитник. Я помнил его слова "скорость гепарда, сила медведя…" Позвонил Хеншо и осторожно намекнул, что дяде следовало бы показаться врачу. Я спросил у Хеншо, вправду ли он любит животных.
Как-то ночью мне приснился Хоффмейер. У него была сигара, галстук бабочкой и театральный бинокль, и он шествовал по джунглям, роскошным и фантастическим, как джунгли на картинах Таможенника Руссо. За ним шли двое носильщиков, в руках у них была клетка, а в ней — жалкая фигура моего дяди. Из подлеска опасливо выглядывало четвероногое существо с лицом моей тетки.
Посещаемость моих лекций по философии падала. Я посвятил два занятия монтеневской "Апологии Раймона Себона". Студенты жаловались, что я веду их странными и обрывистыми тропами. Я пропускал их жалобы мимо ушей. Я уже решил, что летом уеду из Лондона.