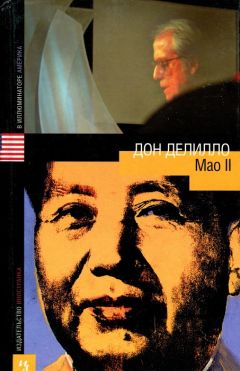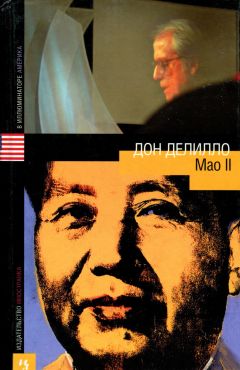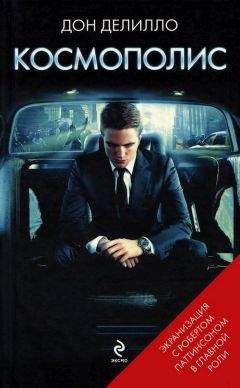Илгаускас, думает он.
Мы никогда не занимали те же места, урок за уроком. Мы уже не помнили, как это началось. Наверное, кто‑то из нас из пришедшей на ум шалости пустил слух, что Илгаускаусу так нравится. И на самом деле у идеи был вес. Он же не хотел знать, кто мы. Мы были для него прохожими, размазанными лицами, мы были сбитыми зверьками на дороге. В его неврологическом нарушении, думали мы, был аспект, из‑за которого он считал всех взаимозаменяемыми, и это казалось интересным, это казалось частью курса — заменяемость, одна из истинных функций, на которые он то и дело ссылался.
Но мы нарушили кодекс, застенчивая девочка и я, снова сели лицом к лицу. Это случилось потому, что я вошел в кабинет после нее и просто упал в пустое кресло напротив. Она знала, что я там, знала, что это я, тот же таращившийся парень, которому неймется установить зрительный контакт.
— Представьте поверхность без всякого цвета. — сказал он.
Мы сидели и представляли. Он провел рукой по темным волосам, лохматой массе, раскинувшейся во всех направлениях. Он не приносил в класс книг, никогда ни учебника, ни стопки заметок, а при его неуклюжих рассуждениях нам казалось, что мы становились тем, чем он нас видел — аморфной сущностью. У нас не было агрегатного состояния. Он вполне мог обращаться к политическим заключенным в оранжевых спортивных костюмах. Мы этим восхищались. В конце концов, мы учились в Тюремном корпусе. Мы обменялись взглядами, она и я, нерешительно. Илгаускас наклонился к столу, в глазах плескалась нейрохимическая жизнь. Он смотрел на стену, говорил со стеной.
— Логика кончается там же, где кончается мир. — сказал он.
Мир, да. Но казалось, что он говорит, повернувшись к миру спиной. Но, в конце концов, предметом была не история или география. Он сообщал нам принципы здравого смысла. Мы внимательно слушали. Одно замечание перетекало в следующее. Он был художником, абстракционистом. Он задал серию вопросов и мы искренне записали. Его вопросы были неотвечаемы, по крайней мере для нас, но он в любом случае не ждал ответов. В кабинете мы не разговаривали: никто ни разу не заговорил. Никаких вопросов студентов к профессору. Эта неколебимая традиция здесь была мертва.
Он сказал:
— Факты, образы, предметы.
Что он имел в виду под «предметами»? Наверное, мы никогда не узнаем. Были ли мы слишком пассивны, слишком податливы? Мы видели дисфункцию, а называли ее вдохновенной формой интеллекта? Мы не хотели его любить, только верить в него. Мы лелеяли свою глубокую веру в абсолютную природу его методологии. Конечно, никакой методологии не было. Был только Илгаускас. Он испытывал наш смысл существования, что мы думали, как мы жили, истинность или ложность того, что мы считали истинным или ложным. Разве не так поступают великие учителя, мастера дзена и брамины?
Он наклонился к столу и заговорил об установленных заранее значениях. Мы внимательно слушали и пытались понять. Но понимание на этом этапе нашего обучения, его нескольких месяцев, привело бы к путанице, даже к какому‑то разочарованию. Он сказал что‑то на латыни, прижав ладони к столу, а потом сделал что‑то странное. Он посмотрел на нас — глаза скользили по ряду лиц, от одного к другому. Мы все были там, мы всегда были там, наши обыденные закутанные Я. Наконец он поднял руку и посмотрел на часы. Неважно, сколько было времени. Жест означал, что занятия окончены.
«Заранее установленное значение», — подумали мы.
Мы сидели, она и я, пока остальные собирали учебники и листочки и снимали куртки со спинок стульев. Она была бледной и тонкой, волосы заколоты сзади, и мне пришла в голову мысль, что она хотела казаться нейтральной, выглядеть нейтральной, чтобы ее было труднее замечать. Она положила учебник на тетрадку, в точности отцентровав, потом подняла голову и подождала, пока я что‑нибудь скажу.
— Ладно, как тебя зовут?
— Дженна. А тебя?
— Хочется сказать Ларс — Магнус только чтобы проверить, поверишь или нет.
— Не поверю.
— Робби, — сказал я.
— Я видела, как ты тренируешься в фитнесс — центре.
— Я был на орбитреке. А ты?
— Просто проходила мимо.
— И часто ты так делаешь?
— Практически все время, — ответила она.
Последние теперь шаркали на выход. Она встала и уронила книжки в рюкзак, болтавшийся на стуле. Я оставался на месте, наблюдая.
— Интересно, что тебе есть о нем сказать.
— О профессоре.
— Есть какие‑нибудь интересные наблюдения?
— Я однажды с ним разговаривала, — сказала она. — Лицом к лицу.
— Ты серьезно? Где?
— В забегаловке в городе.
— Ты с ним разговаривала?
— Я не могу надолго оставаться в кампусе. Надо иногда выбираться куда‑нибудь.
— Знакомое чувство.
— Это единственное место, где можно поесть, не считая здешней столовой, так что я зашла и села, а он был в кабинке через проход.
— Невероятно.
— Я села и подумала: «Это он».
— Это он.
— Там было большое раскладывающееся меню, я за ним пряталась, украдкой поглядывала. Он ужинал, что‑то облитое коричневым соусом, как из центра земли. И у него была кола, банка с гнутой соломинкой.
— Ты с ним разговаривала.
— Я сказала что‑то не очень оригинальное и мы перебросились парой слов. На его втором сиденье он бросил куртку, а я ела салат, а поверх его куртки лежала книга, и я спросила, что он читает.
— Ты с ним разговаривала. С человеком, при котором опускаешь взгляд из первобытного страха и ужаса.
— Это же забегаловка. Он пил колу через соломинку, — сказала она.
— Фантастика. Что он читал?
— Он сказал, что читает Достоевского. Я точно скажу, что он мне ответил. Он сказал: «Днем и ночью — Достоевский».
— Фантастика.
— А я сказала ему про совпадение, что читаю много стихов и всего пару дней назад прочитала стих с фразой, которую как раз вспомнила. «Как полночь в Достоевском»[1].
— А он что?
— Ничего.
— Он читает Достоевского в оригинале?
— Я не спросила.
— Интересно, да или нет. Мне кажется, да.
Возникла пауза, и потом она сказала, что бросает учебу здесь. Я думал об Илгаускасе в забегаловке. Она рассказала, что она здесь несчастна, что ее мама всегда говорила, как прекрасно она умеет быть несчастной. Она переезжает на запад, сказала она, в Айдахо. Я ничего не ответил. Я сидел, сложив руки на ремне. Она ушла без куртки. Ее куртка, видимо, была в гардеробе на первом этаже.
На зимних каникулах я остался в кампусе, один из немногих. Мы называли себя Брошенными и говорили на ломаном английском. Также игра включала осанку зомби и размытый взгляд, и продлилась полдня, пока не надоело.
В спортивном зале я тупо двигался на орбитреке и попал под чары забытой мысли. Айдахо, подумал я. Айдахо, слово, столько гласных и непонятного. Неужели прямо тут, где мы были, для нее недостаточно непонятно?
Во время каникул библиотека пустела. Я вошел с ключ — картой и взял с полок роман Достоевского. Положил книгу на стол, открыл и наклонился к распластанным страницам, читая и дыша. Мы словно ассимилировали друг друга, персонажи и я, и когда я поднял голову, мне пришлось объяснить себе, где я нахожусь.
Я знал, где находится мой отец — в Пекине, пытается вклинить свое охранное агентство в китайскую эру. Мать же несло по течению, может быть, она во Флорида Кис с бывшим парнем по имени Рауль. Отец произносил имя как «Роу-иль»[2], как то, что приходится есть с закрытыми глазами.
В снегопаде город казался призрачным, в мертвой тишине. Я гулял почти каждый день, и человек в куртке с капюшоном никогда не покидал моих мыслей надолго. Я ходил по улице, где он жил, и казалось очень уместным, что его не было видно. Это являлось важнейшим свойством города. Я начал чувствовать себя ближе к этим улицам. Я был там собой, видел все просто и ясно, был вдали от единственной жизни, что знал — столицы, забитой и слоистой, тысяча значений в минуту.
На чахлой торговой улице городка все еще были открыты три заведения, одно из них — забегаловка, и я однажды ел там и два — три раза заглядывал в дверь, оглядывая кабинки. Тротуар был старым рябым голубоватым песчаником. В супермаркете я купил шоколадку и поговорил с женщиной за кассой о почечной инфекции жены ее сына.
В библиотеке я проглотил с сотню страниц мелкого, тесного шрифта. Когда я покинул здание, книга осталась на столе, открытая на странице, где я остановился. На следующий день я вернулся, и книга была на том же месте, открытая на той же странице.
Почему это все казалось таким волшебным? Почему я иногда лежал в постели, уже засыпая, и думал о книге в пустой комнате, открытой на той странице, где я остановился?
В одну из таких ночей, перед тем, как начиналась учеба, я вылез из кровати и спустился в вестибюль, на террасу. Она была застеклена наклонным навесом, я отпер одну из панелей и распахнул. Моя пижама словно испарилась. Я чувствовал мороз в порах, в зубах. Мне показалось, что зубы звенят. Я стоял и наблюдал, я всегда наблюдал. Я чувствовал себя по — детски, словно меня брали на слабо. Сколько еще выдержу? Я вглядывался в северное небо, живое небо, мое дыхание превращалось в небольшие клубы пара, словно я отделялся от тела. Наконец я полюбил холод, но все это было очень глупо, и я закрыл панель и вернулся в комнату. Походил немного, размахивая руками, чтобы разогнать кровь, согреть тело, и спустя двадцать минут снова лежал в постели, без сна — мне в голову пришла мысль. Она пришла ниоткуда, из ночи, сформированная целиком, тянулась во всех направлениях, и когда я открыл утром глаза, она была вокруг, заполняла комнату.