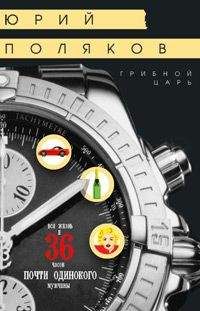Катя долго рассматривала конверт: и почерк незнаком, и обратный адрес. В том городе у Кати не было ни друзей, ни знакомых; она туманно представляла, где он находится, этот город. По карте — ниже и правей, а что там? как там?
Катя все смотрела на конверт: как же так, что она не помнит кого-то из своих добрых знакомых, но мелкие, квадратненькие, тщательно выписанные буковки она видела впервые; у всех знакомых Кати почерк как у нее, разные все они были схожи какой-то распахнутостью, вольностью, а этот такой… скованный.
Катя все смотрела на конверт: это нелепость, ошибка, но квадратненькими буковками был четко выписан ее адрес, ее фамилия, ее имя.
Все так же в недоумении, Катя открыла, наконец-то, конверт, достала листик, исписанный черными буковками, не читая, перевернула письмо, но и аккуратненькая подпись "Володя" не сказала ей ничего. С тем же чувством недоумения Катя начала читать и читала, по-прежнему не понимая, кто же пишет ей.
"Извините, что задержал ответ, но раньше написать не мог по многим причинам. Главная — "а ведь я совсем не тот, кого она ищет".
У Кати, можно сказать, глаза полезли на лоб: она? ищет? кого?!
Хотя… Может быть… нет, не ищет, но ждет. Но кто об этом может знать? А уж кого она ждет, она и сама не знает. Но знает, он объявится, когда ему будет положено, ведь все живут, не зная друг о друге, вот мама с папой, но приходит нужный день, и они встречаются. Так что… (Но что бы он, тот, кого она должна встретить, делал в… — и Катя вновь глянула на конверт с названием чуждого ей города.) Правда, мама говорит, что она, Катя, ждет принца. Папа ничего не говорит. А бабушка — та сердится, что, между прочим, очень странно: у всех подруг родители сердятся от звонков, оттого, что подруги болтают с парнями по телефону, а у нее, у Кати, сердятся, особенно бабушка, оттого, что она болтать не хочет. Катя морщится от звонков, что отрывают ее от книги, и кричит: "Если кто-то из парней (ну, с подругами она так поступать просто не может), скажи, что меня нет дома".
А бабушка: "Да ты хоть узнай сначала, кто говорит!"
— Ну, какая разница?! Нет меня!
А бабушка качает головой:
— Довыбираешься! Привыкла, что их вокруг тебя полно. А проснешься однажды и увидишь, что рядом — никого. Вот тогда вспомнишь, как швырялась ими, да поздно будет.
Кате такие разговоры обидны чрезвычайно. Кем это она швыряется? Кого это вокруг нее полно? Знакомых? Ну, если им сейчас скучно и охота поболтать, почему она должна гробить весь день на говорильню? Никем она не швыряется. Сами они все появляются откуда-то, сами узнают телефон, сами звонят, им заняться нечем — значит и ей тоже? А говорить с ними не о чем. Есть, правда, несколько ребят, те могут и по телефону рассуждать о поэзии, о новых сборниках, о какой-нибудь встрече, скажем в Политехническом, стихи читать вот с ними литературные телефонные диспуты и обмен мнением на фоне взаимных поэтических чтений Катя проводит. Это ей интересно. Но уж тут тотчас заговаривает обычно молчащий отец, да так, что и не остановишь его, словно ему надо наверстать все время молчания.
Как раз в момент телефонного общения отцу непременно требуется позвонить. Ладно еще, если из дома. Можно перед собеседником извиниться, попросить перезвонить. А то из метро. Прежде чем выйти из вестибюля и сесть в автобус, отец звонит домой и сообщает, что он купил сосиски. А телефон занят и занят. И отец приезжает домой больной от бешенства, что сообщение о купленных им сосисках не появилось дома прежде него. Не зная, в чем дело, а только увидев лицо отца, можно подумать, что в доме произошла катастрофа, трагедия — всей семьи, или в общечеловеческих масштабах даже. Катя как-то пыталась ему объяснить, что обед, между прочим, все равно готов с утра, и никто бефстроганов в кусок говядины назад не превратит оттого, что он купил сосиски, но отец в такие моменты слышит только себя и его монолог с бесчисленными речевыми вариациями и тональностями одной-единственной фразы "Я хотел позвонить домой, сказать, что я купил сосиски, но телефон был занят" мог бы вызвать зависть лучшего греческого хора. И рефрен — тоже во всевозможном разнообразии — "О чем можно столько говорить по телефону?!"
А они даже и не говорят в привычном смысле этого слова, они просто читают друг другу стихи. Вот и сегодня звонил знакомый аспирант и читал, постанывая:
В улыбке дней блистает небосвод,
словно шальная голубая роза
в дразнящих и смеющихся зубах.
Лишь дважды в год, лишь в редкие мгновенья
моей судьбы или судьбы небес,
ликующая голубая роза
блестит в окне облачного пробужденья,
когда свободна утренняя мысль,
как ветряная мельница канкукул,
и мчит, забыв вчерашний день,
не собираясь с чем-нибудь считаться.
Катя даже и не очень понимает, о чем собственно речь в том стихотворении, да она и не задумалась о смысле строк, но упивалась их музыкой, неопределенной, неясной, со сквозной светлой тоской, с огромным прозрачным пространством.
"А ведь я совсем не тот, кого она себе ищет", — перечитала Катя фразу, медленно, вдумчиво, пытаясь представить, кто же мог написать ей подобный словесный и философский и какой-то там еще шедевр, словно за первым слоем ей должен был открыться другой, более скрытый, но и более глубинный, а там, кто знает, хорошо поскрести, так обнаружится и еще один и не один… Но — ничего не обнаружила. А тот, кого она ждет — его образ так неясен, словно отражен в далекой воде, и что-то плавает, но только контур и виден, и тот плывет, меняется… Эдакая смесь из всевозможных литературных героев… поэтов… Но реальный какой-то парень, возомнивший, что она в нем…
"Чтобы ответить Вам, надо быть уверенным в том, что ты обладаешь такими качествами, как чуткость, порядочность, благородство. Признайтесь, что это слишком сложно — решить самому, что же ты из себя представляешь и сможешь ли сообщить другому, совсем незнакомому человеку что-то новое, повлиять на него в лучшую сторону", — читала Катя все в том же удивлении, пытаясь вспомнить хотя бы, кто из ее корреспондентов — ребят мог обращаться к ней на "Вы".
И кто это, интересно, собрался влиять на нее в лучшую сторону? Нет, она вовсе не считает себя совершенством, она бы не прочь улучшиться, но кто ж это из ее знакомых считает, что улучшить ее может не… некто, а он, живой, конкретный?
Чем дальше Катя читала письмо, тем более растерянность, что должна была, как ей казалось, исчезнуть при первых строках, становилась все глубже, и, как всегда, одна часть Кати (трудно сказать какая, большая? меньшая?) внимательно читала, старательно вникая в смысл прочитанного и осмысливая его, другая же часть Кати думала о чем-то вовсе не связанном с получаемой информацией: о погоде, о знакомом столетней давности, которого не видала несколько лет, и не вспоминала о нем столько же, о зимних сапогах, что приглядела себе на базаре, о том, будет ли сегодня у отца как раз то настроение, когда надо за ужином как бы вскользь заговорить о сапогах. Третья часть Кати вообще не думала, а чувствовала, ощущала, испытывала эмоции, что тоже не всегда были связаны с текстом (например, Катя могла читать книгу и смеяться, а мама, проходя мимо и рассеяно глянув на обложку, останавливалась и смотрела на Катю с изумлением: что может быть смешного в этой книге?). Еще одна частичка Кати, и немалая, жила жизнью героев. Еще одна — и тоже немалая! — наблюдала за Катей со стороны, словно отлетала от Кати и поглядывала на нее откуда-то сверху, скажем, с антресолей, иногда чуть критически и скептически и насмешливо, но чаще вполне доброжелательно, оставаясь там, на шкафу, вполне Катей довольная, и ее умом, и ее познаниями, и ее находчивостью, и вообще… Катей.
Была еще бездна всевозможных частичек, но менее существенных.
И сейчас Катя читала и получала удовольствие, ей нравился стиль письма, не похожий ни на один стиль ее знакомых: не болтовня, пусть и о вещах для корреспондента важных, но легкая, бегущая, а неспешный, основательный, спокойный стиль, нравилась рассудительность автора, претензия на мысль, а не просто так… И в то же время его, стиля, абсолютная простота, лишенная и вычурности, и красивости. И то, что в письме не было ни помарок, ни грубых грамматических ошибок, знаки препинания и те все были аккуратно расставлены по местам. И тем невероятнее было то, что она напрочь забыла о существовании парня, который, пусть не как кавалер, но как приятель и собеседник не мог быть ей неинтересен. Но вместо ясности с каждой новой строчкой все больше была уверенность в том, что она никогда не видела этот мелкий, такой аккуратный и в то же время такой корежистый почерк, и четкий, и спокойный, обстоятельный, самодостаточный, если позволительно так думать о почерке, что она никогда не слышала этот тон письма, лишенный как бы обязательной для всех ее знакомых самоиронии и иронии над всеми и вся, насмешки, насмешливости, эдакой легкости подачи самых глубоких, сокровенных мыслей, что она не знает, от кого письмо, она не знает его, она никогда его не видала, и, более того, никогда ни от кого о нем не слыхала.