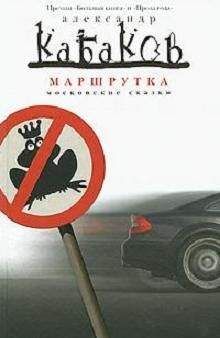Изобретатель Веткин (в любом институте есть такие чудики) повадился заходить ко мне в магазин и рассказывать о своих экспериментах. Вечно тащит какие-то провода, приборы, колбы. Напомнил он мне одного студенческого приятеля. Я на первом курсе всегда на дискотеку, в кино, а приятель – в библиотеку или в лабораторию: химичил вечерами, хотел изобрести эликсир бессмертия. Обещал: “Если получится, на тебе первой испытаю”. – “Почему на мне?” – “Потому что ты человек будущего…” Где он со своим бессмертием пропал? Говорят, в Бельгии. А Веткин тут как тут. Только теперь я не верю ни в какие такие лекарства, хотя есть у Веткина некое изобретательское горение. Глядишь, чего и получится…
– Моя мечта, чтобы люди жили до ста двадцати лет. И не просто жили, а не болели.
И Веткин начинает говорить, говорить, как мед лить… Если смотреть ему в глаза, то уснешь и стукнешься головой об прилавок.
Воду для чая набираю из-под крана в туалете – желтая, невкусная.
Чай в пакетиках как любовь в презервативе – жажду утолишь, а удовольствия никакого.
У охранника за стеклом вода в бутылях привозная, хорошая, он весь день заглядывает в пропуска и пьет чай. Я при атласах, он при атасах. Лицо у стража порядка скучное, так и хочется протянуть ему книгу бесплатно. А будет ли читать – вопрос.
Один раз новенький охранник купил у меня “Кактусы” и “Ядовитые грибы”:
– Для жены, она любит…
Прозвенел звонок, и молодежь ринулась за канцтоварами.
– Скрепки, две резинки, три ватмана…
Нагрянула гардеробщица. Я в недоумении:
– Полина Петровна, что вам предложить?
– Подарок нужен, Таисии Михайловне – уборщице из мужского туалета.
– Сколько ей? Семьдесят? Никогда бы не подумала. Да, “Кама-сутра” не подойдет. Ой, не лезьте на ту полочку. И желтые книжечки не трогайте, я их специально лицом к стенке повернула…
Несмотря на отговоры, Полина берет “Джанки” и “Гомосека” и долго вдумчиво листает.
– Вы читали?
Что сказать? Скажешь “да”, вроде как в чем-то личном признаешься… Скажешь “нет” – соврешь, который раз за неделю.
– Ну да, читала. Знаете, современно…
– А подешевле ничего нет?
– Дешевле только “Конармия” Бабеля, сорок рублей и твердая обложка.
Полина берет “Конармию” и прилаживается на моем прилавке сделать дарственную надпись.
– Чего бы ей пожелать? Успехов в труде?
Мне вдруг вспомнился мужской туалет с грозными плакатами: “Обувь в раковине не мыть”, “На унитазах не прыгать”.
– По-моему, у Таисии Михайловны на службе и так все хорошо. Студенты ее боятся, педагоги стараются лишний раз не заходить, сдержаться, так сказать, до дома дотерпеть.
Полина хмыкнула и ушла обдумывать поздравление.
На мини-кассе высветилось 17.00. В ту же секунду я схватила сумку и вышвырнулась из каменного мешка. А на улице оказалось светло от снега. И ты ждал меня у перекрестка.
Продавщица и почтальон. Роман людей из народа. Это про нас с тобой. Телефон в холле университета бесплатный, днем трезвоню тебе на почту.
– Чего делаешь?
– Выдаю письма. А ты?
– Ценники пишу.
– Все как обычно?
– Да, все как обычно.
“Все как обычно” – подразумевает “я тебя люблю” и прочее…
– Короче, заеду после работы.
– Буду ждать.
Ждать вечера, когда ты закроешь свою почту, а я свой киоск, и мы зашагаем по длинной светящейся улице под горку, и будем целоваться на морозе, и греться во всех попадающихся на пути магазинах. Нашими усилиями дорога домой будет удлиняться до бесконечности… С тобой интересно все: толкаться у прилавков с собачьим кормом, выбирать кефир, проявлять фотопленку, обсуждать стихи и пить в забегаловке кофе без ничего. С тобой мне нравятся этот город, эта планета и даже этот тридцатиградусный мороз. С тобою – жизнь!
Утром врываюсь в магазин и тут же пробиваю первый чек. От балды. Обычно – файл за рубль. Тем самым я максимально приближаю время первой покупки ко времени начала рабочего дня. В течение дня файл непременно купят, но главное- сразу по чеку зафиксировать, что ты уже работаешь…
Далее я достаю ноутбук и начинаю набирать мемуары некоего господина, который мне за это платит. Очень мало. Но я люблю тратить деньги – поэтому мне и мало и много – всегда мало.
Когда устают глаза, разминаюсь, листаю книги…
Зима проходила под взглядом Ван Гога. Наверное, от этого все плыло и волнилось, уходило из-под ног, ускользало из рук.
Как только привезли этот альбом, я поставила его прямо перед собой. На обложке – “Портрет с перевязанным ухом” (и курительной трубкой).
В ушанке, с забинтованной головой Ван Гог казался мне похожим то ли на зэка, то ли на солдата. И еще он был похож на женщин, подвязывающих под зимние шапки белые пуховые платки. Почти русский. Почти петербуржец.
– Как вы можете работать в таком состоянии? – покупатели недоумевают.
С утра на нижнем веке прорвался гнойный нарыв, и глаз залило кровью. Промокаю салфеткой. Пробиваю чеки: кнопки, блокнот, прописи…
Чай из туалета. Мысли под стать пойлу.
В уголках глаз Ван Гога тоже красно. Бинты, кровь… Кровь, боль… Боль имеет свойство растекаться.
Вечером – на мороз с кровавым фуфлом. Перед тем, как выключить свет, смотрю на голландца. Он-то почему в ушанке. Прованс не Петербург. Но ушанка роднит. И красное в уголке глаза роднит…
Он смотрит на меня так – как мне нравится, как я придумала…
В юности любовь растекалась по миру всемирным потопом, теперь это пересыхающий ручей между давящими небоскребами материального благополучия, творческого успеха, воспитания подрастающего поколения, да мало ли у нас первоочередных задач?
И вдруг надоело!.. Глядя на картины Ван Гога, внезапно вспоминаешь, как надоело не любить. Как надоело и скучно быть неодушевленным, статичным, оторванным от неистового движения космоса.
В те времена Вселенная вращалась таким образом, каким Он рисовал ее. А сейчас?…
“После жатвы я иногда тосковал и думал: когда я сам стану частью природы, что будет с моим искусством?”
В Эрмитаже вглядывалась в мазки, сделанные рукой мастера. Многие потрескались. Не знаю, сохранились ли цвета такими, какими Он их видел, когда писал эти струящиеся изнемогающие травы… Есть что-то фантастическое в способности передать любовь и страсть через столетия. Да что там – тысячелетия!.. Доисторические наскальные рисунки содержат тот же порыв.
Кирилл выпустил тоненькую книжечку своих стихов. Пытается сдавать на продажу в магазины, но покупают плохо.
Сочувствую:
– Прозу еще берут, а вот стихи мало кого интересуют.
– Я всегда говорил: поэзию надо пиарить! Блока загнали в рекламу МТС: “Ночь, улица, фонарь…” – и сразу стали покупать. Но еще круче народ впёрло после сериала про Есенина…
– Во-во, даже тинейджеры читали.
– То же и с “Мастером и Маргаритой”.
– Постой, разве Булгаков был когда-то не востребован? В советское время самиздатовские распечатки ходили по рукам, в перестройку тоже нарасхват. И сейчас зачитываются. Потому что настоящее. А ты уверен, если пиарить поэзию, раскручивать будут таланты, а не чьих-то протеже?
– Уверен. И тексты должны быть простыми и прозрачными. А то ведь у нас как считалось: чем непонятнее, тем гениальнее. Наворотят такого, что на слух ничего не разобрать. Я бы писал короткие строчки из стихов на стенах метро, на домах. Пусть привыкают… Вон сегодня утром из окна автобуса увидел на скамейке, что бы ты думала? – цитату из Чака Паланика. Краской размашисто наляпано!
– Это не решит проблемы. Надо, чтобы читали книги и журналы!
– Тогда в журналах между поэзией надо размещать нечто привлекающее публику.
– Рубальская кулинарные рецепты размещает. Стих “Прощай, любимый” и тут же салат “Прощай, любимый”. Или вот… Панаев в девятнадцатом веке издавал журнал “Современник”, так он что делал: вставлял между серьезной литературой цветные вклейки с новинками моды. Жена Панаева вырезала картинки из французских журналов и раскладывала перед ним, а он писал обзор. Из-за этих обзоров журнал и покупали.
Кирилл ушел озадаченный, бубня магическую фразу: “Бабло и пиар… Пиар и бабло”.
Сезанна, Босха, Тициана убрала в стопочку на полке. И только бесподобно рыжий по-прежнему лицом ко мне. Следит за мельтешением у прилавка и за моей фигурой, сгорбленной, как у Син.
“Скорбь” Христины сжимает сердце. Она как однажды увиденная мною в бане голая старуха. Груди упавшие, понурые. Складки тела, подмышки, жидкие пряди волос – все хило и жалко. И только крепость ног не женская. И вся эта трагедия – следствие безмужности, отсутствия холы, неги, любви, самоуважения – всего того, что делает из бабы лебедушку, павушку.
Мэри из “Джанки” кое-что знала о причинах исчезновения женской красоты: