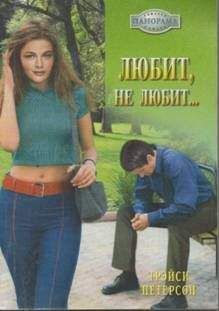“Вы хотите сказать, - удивился я, - что он был полураздет или, как говорят французы, в дезабилье?”
“То было в опиумном притоне в Касбахе, Ватсон, - спокойно объяснил Холмс. - В таких местах не заботятся о тонкостях туалета. Он упомянул, что затылок и шея - более привычное место для подобных деклараций и заявлений у них в Каталонской республике, но предпочел грудь, чтобы приглядывать, как он выразился, за символом и напоминать себе его значение. В связи с объявлением о лондонском визите испанского монарха я спрашивал себя, нет ли тут поблизости каталонских террористов. Мне показалось вполне резонным поискать на теле убитого свидетельство его политических пристрастий”.
“Значит, - сказал я, - не исключено, что молодой испанец, преданный, как казалось, искусству, намеревался убить безвредного и невинного Альфонса Тринадцатого. Спецслужбы испанской монархии действовали, насколько я понимаю, решительно, хотя и незаконно. Сторонники европейской стабильности должны быть признательны тем, кто убил возможного убийцу”.
“А бедный старый служака, охранявший дверь? - возразил Холмс, при этом его проницательные глаза уставились на меня сквозь облако табачного дыма. - Бросьте, Ватсон, убийство всегда преступление”. И затем он стал напевать себе под нос отрывок мелодии, показавшейся мне знакомой. Эти бесконечные пассажи были прерваны известием о том, что прибыл инспектор Стенли Хопкинс. “Я поджидал его, Ватсон”, - сказал Холмс и, когда молодой инспектор вошел в гостиную, неожиданно продекламировал:
Я б выбрал направленье
То, где царит не шторм, а тишина,
Где не мрачнеет заводь, зелена,
Где море пребывает вне волненья.
Стенли Хопкинс разинул от изумления рот, как разинул бы и я, не будь у меня привычки к эксцентричным выходкам Холмса. Прежде чем к Хопкинсу вернулся дар речи, Холмс сказал: “Да, инспектор, я понимаю, вас можно поздравить”. Но поздравлять Хопкинса было не с чем. Он протянул Холмсу листок бумаги, исписанный от руки фиолетовыми чернилами:
“Это, мистер Холмс, было найдено в кармане убитого. Здесь по-испански, я думаю. Язык, с которым ни я, ни мои коллеги совершенно не знакомы. Но вы, конечно, знаете и его. Буду вам премного обязан, если вы нам поможете с переводом”.
Холмс внимательно прочел листок с обеих сторон. “Ах, Ватсон, - сказал он наконец, - это либо упрощает, либо усложняет дело, одно из двух. Мне представляется, это письмо от отца молодого человека, в котором он умоляет сына порвать с республиканцами и анархистами и сосредоточиться на совершенствовании в своем искусстве. В избитых выражениях напоминает ему о своем завещании. Сын, чуждый идеи неделимой Испании на основе прочной монархии, не может рассчитывать на наследство. Отец, по-видимому, смертельно болен и угрожает проклятием своему несговорчивому отпрыску. Очень по-испански, я полагаю. Крайне драматично. Некоторые пассажи напоминают напевностью оперные арии. Не хватает француза Бизе, чтобы положить это на музыку”.
“Итак, - сказал я, - не исключено, что молодой человек объявил о своем отступничестве, обладая информацией, которую собирался предать гласности или по крайней мере передать в инстанции, питающие к ней специальный интерес, почему и был жестоко убит, не успев выступить со своими разоблачениями”.
“Неплохо, Ватсон”, - сказал Холмс, и я, как школьник, покраснел от удовольствия. Не так часто я слышал от него похвалу, не приправленную сарказмом. “От человека, дважды убившего так беспощадно, можно ждать, что он на этом не остановится. Какие меры предосторожности, инспектор, - спросил он молодого Хопкинса, - приняли власти в интересах безопасности высоких испанских гостей?”
“Они прибывают сегодня вечером, как вы, конечно, знаете, на последнем пароме из Булони. В Фолькстоне они без задержки пересядут на специальный поезд. В Лондоне будут жить в здании испанского посольства. Завтра посетят Виндзор. На следующий день назначен ланч у премьер-министра, затем в их честь дается представление “Гондольеры” господ Гилберта и Салливана”.
“В котором высмеивается испанская знать? - спросил Холмс. - Впрочем, не важно. Вы снабдили меня программой визита, но ничего не сказали о мерах безопасности”.
“Я как раз подходил к этому. Весь Скотланд-Ярд будет стоять на ушах, и вооруженные сотрудники в штатском займут посты на ключевых позициях. Не думаю, что здесь уместны опасения”.
“Будем считать, что вы правы, инспектор”.
“Спустя три дня на четвертый августейшая семья покинет страну на пароходе Дувр - Кале в час двадцать пять пополудни. Опять-таки силы безопасности будут начеку как в порту, так и на самом пароходе. Министр внутренних дел понимает крайнюю важность безопасности гостящего монарха, особенно после того досадного инцидента с русским царем, которому злодейски подставили подножку в Хрустальном дворце”.
“Я придерживаюсь мнения, - сказал Холмс, раскуривая потухшую трубку, - что царь Всея Руси был навеселе. Но это а propos”. Вошел полисмен. Он отдал честь Холмсу, а затем своему начальнику. “Дом открыт для лондонской полиции, - заметил Холмс с благодушным сарказмом. - Где один, там и все. Мы вам сердечно рады, сержант. Насколько я понимаю, у вас новости”.
“Прышу прыстить, сэр, - сказал сержант. И дальше Хопкинсу: - Мы нышли смутьяна, сэр, кыроче гывыря”.
“Не тяните, сержант, выкладывайте”, - потребовал Хопкинс.
“Тык вот, сэр, есть некыя испанская гыстиница, ты есть гыстиница, куда испанцы ходят, кыгда хотят побыть среди своих, в квырталах Элефант-энд-Касл”.
“Прелестно, - вставил Холмс. - В Элефант-энд-Касл есть, право, что-то от инфанты кастильской. Но прошу прощения. Продолжайте, сержант”.
“Мы вырвылись туда, и он понял, чем это грызит, пыскольку зыбрался на крышу сквозь слыховое окно и то ли пыскользнулся, то ли сам сиганул вниз и свырнул себе… шею, сэр. - Пуританские условности нашего королевства требуют использования многоточия для обозначения заборного словца, которое употребил сержант. - Прышу меня извинить, сэр”.
“Вы уверены, что это убийца, сержант?” - спросил Холмс.
“Тык вот, сэр. У него нашли ыспанские деньги и кынжал, кыторый они называют стилетом, и рывольвер с двымя израсходованными пытронами, сэр”.
“Остается, инспектор, сличить пули, извлеченные из обоих тел, с теми, что находятся в револьвере. Думаю, что вы не промахнулись, сержант. Примите мои поздравления. Судя по всему, государственный визит его несовершеннолетнего величества пройдет не слишком обременительно для Скотланд-Ярда. Вам, инспектор, следует лишь изложить это все в рапорте, на бумаге”. То был любезный способ отделаться от обоих посетителей. “Вы, наверное, устали, Ватсон, - обратился он ко мне. - Может быть, сержант будет так добр, что высвистит вам кеб. Разумеется, на улице. Мы встретимся, я полагаю, в театре “Савой” десятого числа. Перед началом спектакля. У мистера Дойли-Карта всегда найдутся для меня два лишних билетика. Любопытно будет увидеть, как наши иберийские гости воспримут британский музыкальный фарс”. Он сказал это без игривости, напротив, с некоторой мрачностью. Итак, от меня тоже отделались.
Холмс и я во фраках, при медалях пришли, как было условлено, на оперетту “Гондольеры”. Мои награды были вполне традиционными побрякушками старого вояки, между тем как грудь Холмса украшали крайне необычные ордена: среди наименее экзотических я узнал тройную звезду Сиама и косой Боливийский крест. Нас провели на превосходные места вблизи сцены. Сэр Артур Салливан дирижировал своим сочинением. Маленький король, казалось, больше интересовался театральными софитами, нежели пением и сценическим действием, но его мать с должным вниманием реагировала на шутки, когда их переводил ей испанский посол. Это музыкальное представление больше пришлось мне по душе, чем концерт Сарасате. Я безудержно смеялся, подталкивал Холмса локтем в бок в наиболее пикантных местах и подпевал мелодиям из арий и хоров так энергично, что сидевшая сзади леди Эстер Роскоммон - между прочим, одна из моих пациенток - потрепала меня по плечу и грациозно пожаловалась, что я пою не только слишком громко, но и невпопад. Но, как я сказал ей в антракте, я никогда не претендовал на тонкий слух. Что до Холмса, то он, вооружившись театральным биноклем, смотрел больше на публику, чем на сцену.
Королевская семья в перерыве очень демократично прошла в общий буфет, и юный монарх выпил бокал английского лимонада, на манер простого ребенка причмокивая языком. Я был удивлен, увидев великого Сарасате, в безупречном вечернем туалете, с орденами разных иностранных государств, пьющим шампанское не с кем иным, как с сэром Артуром Салливаном. Я обратил на них внимание Холмса, раскланявшегося издали с ними обоими, и выразил удивление, что такой рафинированный музыкант способен якшаться с опереточной звездой, впрочем, удостоенной высокого титула по милости нашей королевы. “Музыка всегда остается музыкой, - объяснил Холмс, зажигая то, что показалось мне танжерской сигарой. - В доме музыки много обителей. Сэр Артур опустился, Ватсон, до уровня, который представляется ему выгодным, и не только в смысле прибыли: он известен также сочинениями унылой набожности. Они говорят по-итальянски. - Слух Холмса был острее моего. - Насколько ярче звучит этот обмен впечатлениями о монаршей благосклонности на чужом языке, нежели на нашем. Но вот второй звонок. Такой драгоценный табак - и напрасно выброшен!” Последнее относилось к его сигаре, которую он с сожалением потушил в одной из медных урн, стоявших в фойе. Во время второго действия Холмс сладко спал. Я решил про себя, что нечего мне так уж стесняться своей неотесанности, когда я поддался дремоте на том возвышенном музыкальном радении. Как изволил, несколько кощунственно, сказать Холмс, в доме музыки много обителей.